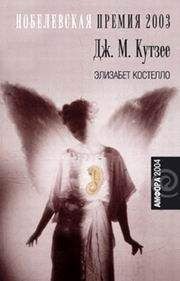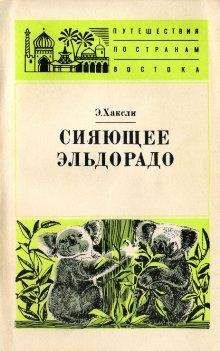— Откуда в тебе столько нетерпимости. Норма?
— Не говори глупостей! Может, я отнеслась бы к ней с большим пониманием, если бы она не пыталась за моей спиной унизить меня в глазах детей своими россказнями о бедненьких телятах и о том, что делают с ними злые дяди. Мне надоело смотреть, как они ковыряются в тарелках с цыпленком или тунцом и выспрашивают, не телятина ли это. Ее идол Франц Кафка вытворял со своими близкими то же самое: говорил, что скорее умрет с голоду, чем будет есть вот это и вот то. В конце концов в его присутствии все в семье стали чувствовать себя преступниками и предоставили ему возможность вкушать пищу в полном одиночестве и с полным ощущением своей правоты. Эта игра мне не по нутру, и я не позволю вовлекать в нее моих собственных детей.
— Через несколько часов она уедет, и мы сможем вернуться к нормальной жизни.
— Ну и слава богу. Попрощайся с ней вместо меня, я не намерена вставать ни свет ни заря.
Семь утра. Солнце едва поднялось над горизонтом. Джон и его мать уже на пути в аэропорт.
— Ты извини Норму, — говорит он. — Последние дни ей дались нелегко. Боюсь, что ей трудно принять твою позицию. Да и мне, честно говоря, тоже. За то короткое время, что ты пробыла с нами, я не успел понять, почему тебя стали так волновать вопросы защиты животных.
— Наилучшим объяснением будет, если я признаюсь, что не могу, не в силах объяснить это тебе, — медленно произносит она, неподвижно глядя на шныряющие по ветровому стеклу «дворники». — Когда я думаю о том, как дико это будет звучать на словах, то мужество меня покидает. Мне кажется, подобные признания лучше делать так, чтобы их не слышала ни одна живая душа: либо в подушку, либо в ямку в земле, как цирюльник царя Мидаса.
— Не понимаю. Попробуй все-таки объяснить.
— Видишь ли, я больше не знаю, где я нахожусь. С одной стороны, мне кажется, что я нахожусь среди нормальных людей и общаюсь с ними спокойно и легко. В то же время я постоянно терзаюсь, не являются ли все вокруг соучастниками чудовищного злодейства. Может, я все это выдумываю? Может, схожу с ума? Однако каждый день я встречаюсь со свидетельствами их виновности. Они сами предоставляют эти свидетельства, открыто демонстрируют их: трупы, куски трупов, за которые платят деньги.
Для меня это равносильно тому, как если бы в ответ на мое восхищение абажуром в доме гостеприимных друзей хозяин сказал: «Не правда ли, красиво? Изготовлено, между прочим, из кожи польских евреев. Прекрасный материал, а особенно кожа девственниц». Я заглядываю в ванную и там на обертке мыла читаю: «Треблинка. Стопроцентный человеческий стеарит». И я спрашиваю себя — уж не сон ли это? Где я нахожусь? Но я не во сне. Я смотрю на тебя, на Норму, на детей и вижу в ваших глазах доброту и любовь. Успокойся, говорю я себе, ты делаешь из мухи слона. Такова жизнь. И с этим нужно смириться, как все. Отчего не можешь этого сделать и ты? Отчего?
Элизабет поворачивает к нему заплаканное лицо.
«Чего она добивается от меня? — думает Джон. — Хочет, чтобы я нашел за нее ответ?»
Они еще не выехали на главную магистраль. Джон сворачивает к обочине, заглушает мотор и осторожно обнимает мать. В нос ему ударяет запах крема и стареющего тела.
— Ну-ну, — шепчет он, — успокойся, сейчас все пройдет.
5
Гуманитарные науки в Африке
I
Свою сестру она не видела двенадцать лет, с похорон матери в тот дождливый день в Мельбурне. Та, которую она мысленно по-прежнему зовет Бланш, но которая так давно стала сестрой Бригиттой, что, вероятно, и думает о себе как о Бригитте, переехала, следуя своему духовному призванию, в Африку, судя по всему насовсем. Будучи специалистом в области классической греческой литературы, она прошла миссионерский курс медицинской подготовки и в настоящее время занимает пост главного управляющего большим больничным комплексом в Зулуленде. С тех пор как регион захлестнула волна СПИДа, вся деятельность персонала больницы Святой Девы Марии в Мариенхилле благодаря энергии Бланш сосредоточилась на помощи детям, инфицированным от рождения.
Два года назад Бланш опубликовала книгу под названием „Живущие надеждой“ — о работе больницы Святой Девы Марии. Неожиданно эта книга стала бестселлером. С целью пропаганды деятельности ордена и сбора средств для больницы Бланш объездила с лекциями Америку и Канаду. Интервью с ней было опубликовано в журнале „Ньюс-уик“. Так, пожертвовав карьерой ученого ради незаметной, изнурительной работы, Бланш: внезапно сделалась знаменитостью настолько значительной, что университет ее второй родины удостоил ее почетного звания.
Именно ради присутствия на торжественной церемонии присвоения звания Элизабет Костелло, младшая сестра Бланш, и прибыла в страну, которую не знает и в общем-то никогда и не имела желания узнать, в этот безобразный город (из иллюминатора она видела пустынную каменистую землю и горы отработанной породы). И вот она здесь, уставшая до изнеможения. Несколько часов жизни потеряны безвозвратно над Индийским океаном, и нечего надеяться, что когда-нибудь их удастся возместить. Необходимо немного вздремнуть, приободриться, снова обрести форму и настроение, прежде чем встретиться с Бланш. Но ей почему-то неспокойно, она как будто сбита с толку разницей во времени. К тому же ей нездоровится. Не подцепила ли она что-нибудь в самолете? Заболеть среди чужих — только этого не хватало! Дай бог, чтобы она ошиблась.
Их разместили в одном отеле, сестру Бригитту и миссис Элизабет Костелло. Предварительно их спросили, предпочитают ли они отдельные номера или намерены поселиться вместе. Отдельный номер, ответила она и подумала, что Бланш, вероятно, сказала то же самое. Они с Бланш никогда не были по-настоящему близки; и сейчас, когда они состарились, ей бы не хотелось слушать молитвы Бланш на сон грядущий или любоваться бельем сестер ордена Святой Марии.
Элизабет распаковывает свои вещи, суетливо топчется по комнате, включает телевизор, снова выключает его. Как-то вдруг она засыпает, лежа на спине, в одежде, не сняв даже туфель. Ее будит телефон. С закрытыми глазами она нащупывает трубку, еще не понимая, где находится. „Элизабет, — произносит голос в трубке. — Это ты?“
Они встречаются в холле отеля. Ей казалось, что в последние годы в отношении одежды монахинь произошло послабление, но если это и так, то Бланш оно не коснулось. На голове у нее платок-апостольник, одета она в простую белую блузу и серую юбку до середины икры, на ногах — остроносые черные туфли, какие носили лет десять назад. Лицо Бланш изрезано морщинами, а тыльная сторона кистей рук вся в коричневых пятнах, но можно сказать, она неплохо сохранилась. „Такие как она обычно доживают до глубокой старости“, — мелькает в голове Элизабет. Костлявая — именно это слово невольно приходит на ум, костлявая, как тощая курица. Ну, а что видит перед собой Бланш и как она оценивает свою сестру, оставшуюся в миру, — на этом, пожалуй, не стоит задерживаться.
Они обнялись, заказали чай. Обменялись ничего не значащими фразами. Бланш приходится теткой ее детям, и, хотя она никогда не вела себя так, как надлежит настоящей тетке, она вынуждена выслушать новости о племяннике и племяннице, которых видела в жизни всего пару раз и которые ей, в общем-то, безразличны. Разговаривая с сестрой, Элизабет с удивлением думает: „И ради этого я приехала — мазнуть губами по щеке, устало обменяться парой слов, сделать попытку оживить прошлое, уже почти стершееся из памяти?“
Родственная близость, фамильное сходство — а в общем-то две старые женщины в чужом для обеих городе пьют маленькими глотками чай, пытаясь скрыть друг от друга свое разочарование. Несомненно, еще можно что-то исправить. Можно укрыться за какой-нибудь выдумкой, которая мышонком скребется в закоулках памяти. Но сегодня она слишком устала, чтобы воспользоваться этой возможностью.
— В девять тридцать, — говорит Бланш.
— Что?
— За нами заедут в девять тридцать. Встретимся здесь, внизу. — Бланш ставит чашку на стол. — Ты выглядишь измотанной, Элизабет. Пойди поспи немного. А мне нужно подготовить речь. Меня попросили выступить. Ничего не поделаешь, за почет надо платить.