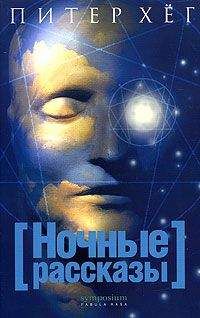— Мадемуазель Гэбель, — сказал он, — я стал слишком стар, чтобы притворяться. Вынужден признать, что в вашем ходатайстве, равно как и в вашей диссертации, есть целый ряд длинных пассажей, где я даже не понимаю, о чём идёт речь.
— Я уверена, — сказала Шарлотта резко, — что некоторые чувства подвержены самопроизвольному распаду. В жизни отдельного человека, но также и на протяжении истории. Что в прежние исторические периоды люди чувствовали значительно сильнее, чем сегодня.
— Подобное предпочтение прошлого настоящему, — ответил ей пожилой человек, — чаще приветствуется людьми моего возраста.
— Я убеждена в том, — продолжала Шарлотта, решив проигнорировать иррелевантное высказывание, — что каждое чувство оставляет след в самом человеке и в окружающей его обстановке. Каждый атом получает импульс энергии, который сохраняется как спин, определённая вибрация, если можно так сказать, некий трепет частиц. Моя диссертация — это теоретическое обоснование таких следов. В Копенгагене я хочу продолжить работу над этой теорией, чтобы создать основу для эксперимента, который даст возможность эти следы зарегистрировать.
Пожилой человек с безразличием посмотрел на неё.
— И что же вы хотите получить в результате? — спросил он.
— В результате, — сказала Шарлотта, — мы сможем реконструировать прошлое. Представьте себе, что любую стену можно представить как чрезвычайно слабую светочувствительную плёнку. И что мы когда-нибудь сможем проявить все возможные изображения, которые когда-либо отражались на ней. Представьте себе Лувр Как большую лабораторию, где мы извлекаем фрагменты античных сцен с фриза Пантеона. Где каждая арка всё ещё резонансная камера, еле заметно вибрирующая музыкой далёкого прошлого. И где мы подносим иглу граммофона к большой вазе с изображением Персея и Горгон и можем услышать голос гончара, перенесённый, словно на звуковую дорожку, его пальцами и сохранённый некоей царапиной на лакированной пластине шестого века до нашей эры.
Затем Шарлотта поднялась и вышла, а учёный долго сидел, глядя прямо перед собой. Потом ещё раз прочитал своё письмо. В нём он с самой лучшей стороны рекомендовал Шарлотту Гэбель своему старому другу. Он снова обмакнул перо в чернильницу и добавил одно предложение: «Дорогой Нильс, — написал он, — поверь мне, эта девушка — самое большое физическое дарование из тех, кто за время моего пребывания в должности ректора посещал Сорбонну».
Некоторое время он смотрел на написанные им слова. И вдруг совершенно неожиданно для самого себя приписал: «Но она сумасшедшая».
Длинной веренице учёных, которые впоследствии написали воспоминания о своём пребывании в Институте теоретической физики в Копенгагене, Шарлотта запомнилась за тот свет, который благодаря ей проник в это учреждение. Свет отточенной интеллектуальной мысли, направленный на решение общих вопросов в атмосфере всеобщего воодушевления, аскетической чёткости и безумных фантазий. О её невозмутимой и благожелательной скрупулёзности в этих дискуссиях часто упоминается в различных автобиографиях. Но о другой части света Шарлотты, об излучаемом ею самой сиянии в них нет ни слова.
Это излучение, по-видимому, побудило физиков-мужчин стремиться к новым высотам — при их и без того уже впечатляющих достижениях, — но для некоторых из них оно тем не менее ещё и омрачило воспоминания о проведённом в Копенгагене времени.
В этих мужчинах, работающих среди других мужчин, всю свою жизнь вложивших в физику, живущих по распорядку, где не делается различия между днём и ночью, присутствие Шарлотты вызывало бурные, неуправляемые цепные реакции. Не один вечер в институтской библиотеке, когда речь должна была идти о ядре атома или о Вселенной, о самом мелком или самом крупном, заканчивался где-то посередине, а именно в тот момент, когда Шарлотте приходилось давать отказ несчастному человеку. С тоской она вынуждена была наблюдать, как эти мужчины, которые все вместе представляли большинство европейских национальностей, мгновенно, бездумно падали с той высоты, куда, как она чувствовала, им следовало быть вознесёнными тем высоким делом, которому они служили, как они ударялись о землю и перед её вежливой, но непоколебимой неприступностью скатывались назад сквозь все свои годы от разума к обиде, от обиды к ярости, чтобы в конце концов зарыдать, как грудные дети.
Как правило, Шарлотта в таких случаях просто уходила, в печали и в унынии, потому что ничем не могла им помочь. Лишь один раз из сострадания она позволила себе задержаться, взяла пожилого лауреата Нобелевской премии за руку и высказала ему самый сокровенный опыт всей своей жизни в экстрагированном до одного-единственного предложения виде.
— Ступайте домой, работать, — сказала она. — В физике можно найти утешение.
Авторы большинства тех статей по физике элементарных частиц, которые в 1928 году были написаны в Копенгагене, в полной мере прочувствовали великодушное дружелюбие Шарлотты, её глубокие знания, её блестящее владение двумя языками и широту её эрудиции. Но о своём собственном проекте она никому ничего не говорила. Только Нильса Бора она вскоре после своего приезда в короткой беседе ознакомила с проблематикой.
Услышав мысль о том, что каждая отдельная частица несёт в себе исчерпывающее воспоминание о своём прошлом в форме исчезающего ничтожно малого энергетического узора, Бор покачал головой.
— Это будет очень трудно доказать, — сказал он.
— Это доказано, — ответила Шарлотта. — Теперь это надо измерить. Я собираюсь реконструировать прошлое в лаборатории.
Тут великий учёный неожиданно встал и, убедившись в том, что дверь его кабинета, ведущая в коридор, плотно закрыта, с удивительно трогательной рассеянностью и теплотой взял руки Шарлотты в свои и прошептал:
— Я тоже хочу поиграть.
Он сделал неопределённый, охватывающий все здания института, жест.
— Большая площадка для игр, — прошептал он. — Одна из самых дорогих в мировой истории. — Он выпустил руки Шарлотты и опустился на стул, но голос его по-прежнему не поднимался выше хрипловатого шёпота.
— У меня есть одна теория, подобная вашей, — заявил он. — Противоположная, но в некотором смысле — дополняющая.
Он наклонился к ней:
— Я думаю, что звёзды могут гореть вечно.
Шарлотта прекрасно понимала, что оказалась свидетелем того, как духовный лидер современной физики отрекается от одного из своих богов, и пребывала в полном молчании.
— И ещё одна теория, — шептал Бор, и Шарлотта с великим трудом разбирала его слова. — Вы встречались с Резерфордом? Считать не умеет. Когда он складывает два и два, у него получается пять. Но тем не менее всё чувствует. У него есть гипотеза о составном ядре. Считает, что можно инициировать цепную реакцию. Хочет освободить силы в ядре. Неизвестно, какие. Могло бы стать величайшим взрывом в истории. С этим необходимо обращаться очень осторожно. Но всё-таки подумайте. Как в детстве. Порох в металлической трубке, резьбовая пробка в каждом конце. Маленькое отверстие для фитиля. Получается колоссальный грохот. Хватило, чтобы взорвать старые печи в Гаммельхольме. — Бор пристально посмотрел на неё. — Всё мы играем, — сказал он весело.
Шарлотта поняла, что беседа закончена, что мысли учёного куда-то уходят, то ли внутрь, то ли наружу, но удаляются от окружающей его реальности, и она встала и вышла. Из того, что сказал мужчина, оставшийся за её спиной, она практически ничего не поняла, но она чувствовала, что он заинтересовался, проникся к ней симпатией и разрешит ей делать всё, что она сочтёт необходимым.
Бор никому не пересказывал идеи Шарлотты Гэбель, но на следующий вечер, когда они с Гейзенбергом прогуливались по парку позади института, он был более молчалив, чем обыкновенно, и, прежде чем они расстались, долго стоял в молчании, как будто у него что-то было на душе. Потом он посмотрел на тёмно-синее вечернее небо, где как раз проступили первые звёзды в небесной арфе созвездия Лиры.
— Чтобы добраться до звёзд, — сказал он внезапно, на первый взгляд без всякой связи с чем-либо, кроме небесного купола, — приходится выбирать самые невероятные окольные пути.
В тот год в институт приглашали учёных, которые рассказывали удивительные новости из пограничных с физикой областей, и однажды с лекцией выступал известный немецкий врач и психоаналитик, сообщивший, что он достаточно поздно в своей жизни испытал своего рода возрождение, заставившее его оставить свою прежнюю специальность, строгое научно-физиологическое рассмотрение женских органов в области таза, чтобы, как он выразился, «проникнуть ещё глубже».
Он подчёркивал исключительную объективность психоаналитических теорий красноречивыми жестами, взгляд Шарлотты задержался на узком белом шраме на тыльной стороне его руки, и она узнала своего давнишнего соседа по столу, эксперта в области женской чувственности.