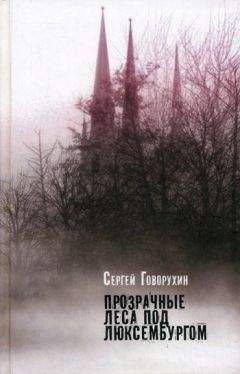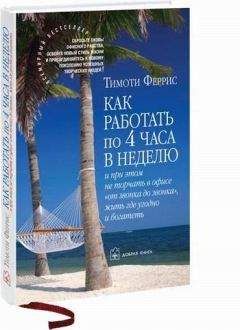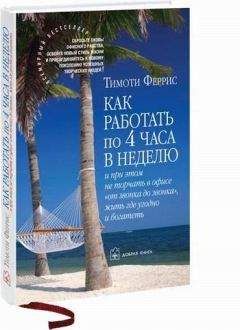– Значит, на русском нельзя… – Он тоже заставил себя улыбнуться. – А на татарском пройдет?..
Сейчас он еще отчетливее услышал, как стыло прозвенел его голос. Все. Точка. Если не остановиться – он сорвется, ударит этого человека. И он остановился.
– Я думаю, это можно попробовать, – по-прежнему доброжелательно ответил редактор – он не услышал его голоса. – Специфика такая, знаете ли…
– А может, на язык племени мапуту? Или еще на какой-нибудь диалект? – спросил он, пытаясь говорить как можно спокойнее, и неожиданно увидел, как жалко и стыдно трясутся руки.
Он шел по длинному коридору редакции. И вдруг резко развернулся, точно и коротко ударил по оконному стеклу. Звон, осколки разбитого стекла и, словно по цепной реакции, шум открывающихся дверей – из кабинетов на него глядели ничего не понимающие сотрудники издательства.
А он уже шел мимо них, опустив окровавленную руку и закусив губы от боли…
Зачем он это сделал?
Но все-таки на какое-то время физическая боль поглотила боль и унижение, которые он пережил за той дверью, теперь оставшейся позади…
–
Его глаза никогда не смеялись.
Он был спокойный, непринужденный в общении, в чем-то даже нелепый человек. С ним было на удивление легко и просто.
Только вот глаза, которые никогда не смеялись. Но, с другой стороны, кто в них всматривается? Ну, глаза и глаза. Бог с ними, с глазами.
Вечером, в шумном кругу знакомых, он умер, видимо, что-то не преодолев в самом себе, не сумев улыбнуться в нужную минуту…
– Какое недоразумение! – воскликнули окружающие. – Ведь он жил так легко…
Его фотография, оттененная черным гранитом, казалась совершенно неуместной на заброшенной аллее старого кладбища.
– Всего двадцать девять… – сокрушались проходящие мимо. – Совсем мальчик. И какое, обратите внимание, беспечное лицо…
И никто не замечал его глаз, которые никогда не смеялись.
–
В этой стране суждено родиться. Суждено умереть. Жить суждено ли?
–
За столиком театрального кафе «юноша пылкий со взором горящим» декламирует свои стихи. И чем хуже стихи, тем эпатажнее, с опереточными фиоритурами в голосе он их подает.
В одежде – искусственный беспорядок, в глазах – предубеждение, скандальный есенинский блеск…
Может, и хорошо, что не всех нас пускают в литературу.
–
В поэзии слово «ведь» – признак стихотворной немощности.
–
Русские художники – счастливый народ.
На западе пишут на компьютерах. Но о чем? Кругом достаток и стопроцентное счастье.
Нам же стоит отдернуть занавеску – и уже рассказ: нищета, безверие, хамство, попранные идеалы, фальшивые истины… Только пиши.
Что-то не пишется – есть хочется.
–
И открылись врата в рай.
Две девственные нимфы под руки усадили на лужайку, поднесли белоснежную хламиду, дали вкусить наливного яблочка.
Вокруг благообразие: арфистки, перебирающие золотые струны утонченными руками, божественные клавиры, разящие стрелы амуров, Господь – величественный и вполне доступный, неслышная поступь святых на небесах… И так вечно. Вечно!
Взвыл и… проснулся. Побродил по квартире, подошел к окну. За окном парк, липовый медонос, сонные утки в пруду…
Под окном разгорающийся скандал у пункта приема стеклотары, чей-то надсадно заводящийся автомобиль…
Закурил в раскрытое настежь окно и подумал: как же хорошо быть материалистом.
–
Петродворец. Дама в пышном платье восемнадцатого века, в парике-буклях фотографируется с изможденными от жары туристами. Несвежее бутафорское платье подчеркивает возраст его хозяйки: на лице испарина, вялая грудь, под неряшливым слоем макияжа немолодое, утомленное лицо.
Театрально улыбается очередным ценителям старины, поддерживает под липкий локоток их разомлевших жен…
И развозятся по стране ее фотографии, занимая строго отведенное место в толстом семейном альбоме с виньетками. И по семейным праздникам, оторвавшись от куриной ножки, хозяин вынимает альбом и, тыча пальцем в фотографию, комментирует пьяным гостям:
– Это мы в Петродворце… Во подруга – целый день в объективе. Ничего работенка, а?
Гости дружно поддерживают:
– Да уж, не слабо…
– Мне бы такую. Ходи с утра до вечера – запечи… запечатляйся с кем попало…
Она и ходит с утра до вечера, и снова с утра. Вышедшая в тираж актриса.
Вечером в кабаке пьет коньяк, курит, матерится, хохочет над пошлыми шутками, набирается под завязку. И чем больше пьянеет, тем выразительнее тоска и одиночество в ее глазах.
Все ее знают, со всеми она спала, всем на нее плевать…
–
Вот и дожил Каганович до девяносто шести.
Как-то попытались взять у него интервью. Приехали на Фрунзенскую набережную, позвонили в дверь.
Долгие старческие шаги в прихожей, надсадный кашель, напряженно-придушенный голос:
– Кто?
– С телевидения, Лазарь Моисеевич. Хотели бы взять у вас интервью.
Изматывающая пауза. Проворачивание бесконечных замков и открывающаяся на ширину цепочки дверь.
В дверном проеме дряблая, твердо сжимающая кукиш рука. Вот вам! Вот!
В полумраке коридора детская блаженная улыбка обезумевшего палача.
–
Как называлась та деревня? Не вспомню. И уже никогда не найду.
Туманная, пустынная, на берегу спокойной, величественной Камы.
Я ловил рыбу с перевернутой, разбитой, тысячу лет не смоленой лодки. Не клевало. Да и трудно было представить, что на такой величественной реке без заводи и запруд может быть клев.
Наконец попался рак. Мудрый старый рак, флегматично перебиравший клешнями. Он знал, что я отпущу его. И я отпустил.
Заброшенная, покосившаяся деревня с равнодушными ко всему, доживающими свой век старухами.
Было мне тогда двенадцать лет. И этот первый, исполненный душевного равновесия день…
Но уже тогда вошел в мою душу покой и остался навсегда.
И теперь он тревожит, зовет меня – этот покой. И дали его безграничны. А я все чего-то жду…
–
Ветра гонят по земле пустые консервные банки, вздымают в небо смерчи неликвидных денежных знаков. Снега на голых прилавках магазинов, в глазах – одержимость хлебом насущным, безнадежность – эпоха гиперинфляции…
А человек с безнадежными глазами строил себя всю жизнь.
С тщательностью великого зодчего он проектировал себя из самых разнородных материалов, где-то ломал, что-то перестраивал, писал акварелью голубые города, возводил мосты, бережно укладывал янтарные россыпи канифоли в скрипичный футляр.
Из космоса он, замирая, смотрел на Землю – единственную планету в бесконечном океане Галактики, расщеплял атом и любил одну единственную женщину.
Он всю жизнь лепил руки Венере Милосской. Их уничтожила гиперинфляция.
Гиперинфляция наших душ.
–
Сколько мы переврали за эти годы, как исковеркали себя, свою историю, какими благими лозунгами прикрывались и, наконец, вывели абсолютную величину: достаток!
И сразу стало предельно ясно и осязаемо то, ради чего требовалось прожить целую жизнь и умереть, так и не получив ответа.
–
Человек ущербен изначально. Попробуйте назвать кого-то, хотя бы раз не совершившего подлость. Не предавшего…
Дистанция между порядочным человеком и отъявленным негодяем настолько ничтожна и иллюзорна, что, по большому счету, ее определяет ощущение гадливости, которое мы испытываем от совершенной подлости. Или не испытываем.
Плоть человека – грех. Дух – Бог. Все уравновешено на незримой чаше весов, и нравственная чистоплотность, в конце концов, зависит от того, сколько шагов сделано в ту или иную сторону.
И потому есть вера и церковь. И Библия – зеркало, в котором никогда не отразиться. И потому есть Дьявол и его цепное порождение на земле.
–
У входа в метро старик продавал готовальню.
Гудящий, облепивший станцию блошиный рынок поигрывал перламутровым фарфором, холодным очаковским пивом, китайскими лифчиками и пуховиками, величественными мясорубками…
Здесь можно было продать и купить валюту, газовый пистолет, средство от тараканов, очередное сенсационное разоблачение «Московского комсомольца»… Здесь можно было продать и купить все что угодно, только не готовальню.
Старик продавал готовальню. Старую, с вытертыми краями и потускневшим циркулем на пыльном бархате, – он так и не понял, что прошли времена чертежников и конструкторов и люди давно конструируют только свое малогабаритное счастье.
Появился милиционер. Бодрый, недавно похмелившийся, с заломленной на затылок шапкой и небрежно перекинутым через плечо укороченным «калашниковым», и старика не стало – у него не было лицензии на право уличной торговли, разрешающей продать последнее – старую готовальню.
Дома старика ждала собака. Третий день она провожала его до дверей в надежде увидеть без готовальни, а та все возвращалась и возвращалась.