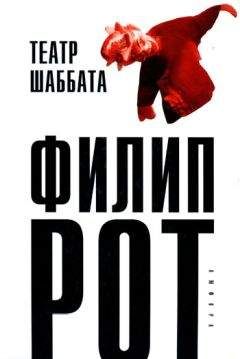В три она уже снова была со своей матерью в похоронном зале. Это оказалось совсем рядом с домом одного английского приятеля, которого я договорился навестить. Я дал ей адрес и номер телефона и велел прийти туда, когда все закончится. Вместо этого она позвонила и сказала мне, что останется с матерью, пока я сам не заберу ее. То есть я должен был зайти за ней в этот похоронный зал. Мне туда совсем не хотелось. Но она настаивала на этом, и я ничего не мог поделать.
У меня была слабая надежда, что она все-таки придет к моему другу, но, подождав до пяти, я сам подошел к дверям морга и попросил дежурного, единственного, кто был там в воскресенье, позвать ее. Он сказал, что Никки просила провести меня туда, где она «навещает» свою мать. Служитель провел меня по коридору, потом вниз по лестнице, потом снова по длинному коридору, по сторонам которого были расположены сплошные двери. В комнатах за этими дверьми выставляли тела усопших, чтобы родственники могли попрощаться с ними. В одной из этих крошечных комнатушек я и нашел Никки. Она сидела на стуле у открытого гроба и опять трудилась над материным вязаньем. Увидев меня, она тихонько рассмеялась и сказала: «Мы славно поболтали. Нас очень рассмешила эта комната. Она точно такая же по размеру, как была у нас в Кливленде, когда мы убежали из дома. Ты только посмотри, — сказала она, — какие у нее хорошенькие маленькие ручки!» Она отогнула край кружевного покрывала, чтобы продемонстрировать мне скрюченные пальцы матери. «Манулица!»— нежно приговаривала она, покрывая их поцелуями.
По-моему, даже служитель, остановившийся в дверях в ожидании, когда можно будет проводить нас, был потрясен этой картиной. «Нам надо идти», — решительно сказал я. Она заплакала: «Еще несколько минут». — «Ты была здесь два часа». — «Я так люблю, так люблю мою…» — «Я знаю, но сейчас нам надо идти». Она встала и принялась целовать и гладить лоб матери, повторяя «Я так люблю, так люблю…» Нескоро мне удалось увести ее из комнаты.
В дверях она поблагодарила служителя: «Вы все были так добры к нам!» И взгляд у нее был какой-то удивленный, а когда мы вышли, она спросила, не буду ли я возражать, если завтра с утра она поставит свежие цветы в комнату матери. Я подумал: мы имеем дело со смертью, какие, к черту, свежие цветы! Но я держал себя в руках, пока мы не пришли в отведенную нам Реной комнату. Был чудесный майский день. Мы молча прошли через Холланд-парк, мимо павлинов и английского сада, потом через Кенсингтон-Гарденс, где цвели каштаны, и наконец пришли к Рене. «Послушай, — сказал я ей, закрыв изнутри дверь в нашу комнату, — я больше не могу на это смотреть. Живут не с мертвыми, а с живыми. Вот так. Все очень просто. Ты жива, а твоя мать мертва. Это очень печально, что она умерла в сорок пять лет, но то, чем ты занимаешься, — для меня это слишком. Твоя мать — не кукла, чтобы с ней играть. И она не может смеяться с тобой ни над комнатой, ни над чем другим. Она умерла. Тут не до смеха. Всему этому нужно положить конец».
Но она все еще не поняла. Она ответила: «Но я видела, как она проходит стадию за стадией, сцену за сценой…» — «Нет никаких стадий. Она мертва. И это единственная стадия. Ты меня слышишь? И ты не на сцене. Здесь не играют. Все это становится даже оскорбительным». Некоторое время у нее был вид человека, сбитого с толку, потом она открыла сумочку и достала оттуда пузырек. «Мне не надо было это принимать», — сказала она. «Что это?» — «Таблетки. Я попросила у доктора. Когда он приходил к маме, я попросила его дать мне что-нибудь, чтобы мне было легче на похоронах». — «Сколько ты приняла?» — «я не могла иначе», — только и ответила она. Она проплакала весь вечер, а я спустил таблетки в унитаз.
На следующее утро, почистив зубы, она вышла из ванной уже прежней Никки. «С этим покончено, — сказала она, — моей матери там нет». И больше она ни разу не зашла в морг, не поцеловала свою мать, не смеялась вместе с ней, не покупала ей ни занавесок, ничего другого. А потом тосковала по ней каждый день своей жизни, скупала, плакала по ней, разговаривала с ней, пока не исчезла сама. И вот тогда-то я принял от нее эстафету и стал жить с мертвыми, и по сравнению с моей жизнью заскоки Никки оказались просто детскими игрушками. И как же она отдалилась от меня — как будто это сама Никки, а не смерть переступила черту.
* * *
В 1953 году — почти за десять лет до того пресловутого десятилетия, когда лицедеи всех мастей, всякие жонглеры, фокусники, музыканты, певцы в стиле кантри, скрипачи, гимнасты, агитаторы, юнцы в нелепых костюмах, ни на что не годные, кроме того, чем они были увлечены, наводнили Манхэттен, — двадцатичетырехлетний Шаббат, только что вернувшийся из Рима, где он учился, ставил свою ширму на пересечении Бродвея и 116-й улицы, прямо перед воротами Колумбийского университета, и устраивал уличные представления. Его специальностью, его фирменным знаком стала работа пальцами. Пальцы, в конце концов, существуют для того, чтобы ими шевелить, и пусть возможности тут невелики, но если каждым двигать с умом и каждый наделить характером, они способны творить потрясающую новую реальность. Иногда, просто натянув на руку женский чулок, Шаббату удавалось будить у зрителей разнообразнейшие сладострастные фантазии. Иногда, проделав дырочку в теннисном мячике и водрузив его на палец, Шаббат таким образом наделял палец головой, причем головой с мозгами, полной разных планов, прожектов, фобий, — головой, которая работает. Иногда палец приглашал зрителя подойти к ширме и принять участие в представлении, тоже нацепив на палец «живой» мячик. Одну из первых своих программ Шаббат любил завершать судом над своим средним пальцем. Когда суд признавал палец виновным в непристойном поведении, выкатывалась небольшая мясорубка, и полиция (правая рука) волокла палец к ней, он упирался, но в конце концов его кончик насильно вставляли в овальную дырку мясорубки. Полиция бралась за ручку, средний палец вопил, что он ни в чем не виноват, что он делал только то, что природа велела делать среднему пальцу, прежде чем сгинуть в недрах мясорубки, а из нижнего ее отверстия появлялись длинные макаронины сырого фарша для гамбургеров.
Палец — голый и даже «одетый» — это всегда намек на пенис, и в первые годы уличных представлений у Шаббата случались скетчи, в которых этот намек даже не был никак завуалирован.
В одном из скетчей его руки появлялись в обтягивающих черных лайковых перчатках с застежками на запястьях. Ему требовалось десять минут, чтобы снять перчатки, палец за пальцем (это очень долго — десять минут), и когда наконец все они были обнажены, причем некоторые после изрядного сопротивления, оказывалось, что у многих молодых людей в штанах набухло. Труднее было отследить, как это действует на молодых женщин, но, во всяком случае, они не уходили, смотрели и не стеснялись, даже в 1953 году, бросить горсть монет в итальянскую кепку Шаббата, когда он появлялся из-за ширмы после двадцатипятиминутного представления, с нехорошей улыбкой над черной коротко остриженной бородой — низкорослый, свирепый, зеленоглазый пират с мощной, как у бизона, грудной клеткой. Человека с таким торсом не захочешь встретить на узкой дорожке. Это был коренастый, похожий на дерево с крепкими корнями, явно похотливый и необузданный тип, которому наплевать, что о нем подумают. Он выходил из-за ширмы и лопотал на журчащем итальянском, бешеной жестикуляцией выражая свою признательность. Никому и в голову не приходило, что держать руки поднятыми двадцать пять минут — тяжелый труд, требующий выносливости и часто сопряженный с физической болью, даже для такого сильного человека, каким был Шаббат в двадцать с небольшим. Разумеется, все голоса «за кадром» говорили по-английски — по-итальянски Шаббат говорил только после представления, исключительно забавы ради. По этой же причине он открыл на Манхэттене «Непристойный театр». По этой же причине шесть раз побывал в «Романтическом рейсе». По этой самой причине он делал все, что делал, с тех пор как семь лет назад ушел из дома. Он хотел делать то, что хотел. В этом и состояло его преступление, и кончилось все арестом, судом и приговором, причем ему вменялось в вину именно то, что он издевательски предвидел в скетче с мясорубкой.
Даже из-за ширмы, глядя под определенным углом, Шаббату удавалось краем глаза увидеть зрителей, и стоило ему заприметить среди двух десятков собравшихся студентов привлекательную девушку, он тут же прерывал представление или сворачивал его, и его пальцы начинали заговорщически перешептываться. Самый смелый — средний палец — с притворным безразличием потягивался, грациозно нависал над ширмой и манил девушку подойти. И они подходили: некоторые со смехом или с улыбкой, включаясь в игру, другие — с каменными лицами, как будто уже чуть-чуть загипнотизированные. После легкой, ни к чему не обязывающей болтовни палец приступал к серьезному расследованию: выяснял, приходилось ли девушке когда-нибудь встречаться с пальцем, как относится к пальцам ее семья, считает ли она сама палец завидной партией, представляет ли себе счастливую жизнь с одним лишь пальцем… а другая рука тем временем под шумок расстегивала молнию или пуговицы на ее верхней одежде. Обычно дальше этого не шло. Шаббат понимал, что тут нельзя переборщить, так что интерлюдия кончалась безобидным фарсом. Но иногда, когда Шаббат по ответам заключал, что собеседница настроена более игриво, чем остальные, или уже достаточно одурманена, рука становилась наглой и блудливой, и пальцы принимались за пуговицы на блузке. Только дважды им довелось расстегнуть замочек бюстгальтера, и лишь однажды они отважились погладить обнажившийся сосок. Именно тогда Шаббата и арестовали.