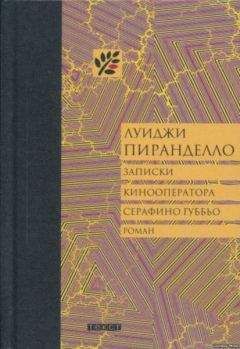Произошло следующее: в бреду Нути принял синьорину Луизетту за Дуччеллу и поначалу обрушил на нее тысячу упреков, крича, что ее неуступчивость и упрямство несправедливы, поскольку он невиновен в гибели ее брата; он сам, как дурак, как безумец, погубил себя из-за этой женщины. Когда же она, поборов страх и догадавшись, что это галлюцинация, приблизилась к нему, он уже не отпускал ее ни на миг, прижимал к себе, плакал навзрыд и бормотал самые нежные и пылкие слова любви, ласкал ее, целовал ей волосы, руки, лоб… Она не сопротивлялась, да и все остальные помалкивали, поскольку эти слова, ласки, объятия и поцелуи предназначались вовсе не ей, а призраку, который приносил Нути успокоение. Что ж, раз так, пусть изливает свою любовь. Она же, Луизетта, вместо другой наполняла свою душу состраданием и любовью, словно это была не ее собственная душа, а душа той, другой девушки, Дуччеллы. И в то время как он присваивал себе ее душу, она не могла, не должна была принимать его слова, ласки, поцелуи. Но все струны души этой малышки дрожали, ведь она уже с самого начала готова была пожалеть этого человека, который так страдал из-за другой женщины! Из-за другой, которую она, естественно, считала жестокосердой. Что ж, она наделила ее своим чувством жалости, дабы та пожалела его и получила от него — через ее тело — любовь и ласки. Но любовь, любовь-то кто давал? Она, Луизетта, должна была давать любовь наряду с чувством жалости. И малышка давала ему любовь. Она знает, чувствует, что отдавала ее с чистой душой, от всего сердца, и при этом должна была крепко помнить, что делала это вместо другой.
И вышло вот что: Нути мало-помалу приходит в себя, поправляется и с мрачным видом замыкается в своем несчастье, а она чувствует себя опустошенной и потерянной. Она как в подвешенном состоянии, взгляд потухший, сама не своя; она напоминает призрак, которым была в галлюцинациях Нути. У него-то призрак исчез, а вместе с призраком и любовь. Но эта малышка, опустошившая себя, чтобы отдать призраку собственную душу, любовь, сострадание, — она осталась призраком, и он этого не замечает! Изредка слегка улыбнется в знак благодарности. Лекарство подействовало, бред и жар отступили, так, может, хватит теперь?
Мне стало бы досадно, если б все эти дни я тоже был вынужден делиться любовью и состраданием, отдавать себя, бегать туда-сюда, не смыкать глаз по ночам, и все это — не испытывая к Нути подлинного, искреннего чувства, а из чувства жалости, корыстного, самого что ни есть корыстного. Потому-то мне ненавистна та насквозь фальшивая жалость, которую я проявлял и до сих пор проявляю по отношению к Нути.
Видя, как страдала Луизетта из-за Нути (он-то, разумеется, не хотел ее страданий), я, прислушавшись к собственному сердцу, должен был бы отказать Нути в жалости и сострадании. В глубине души я так и сделал и обратил эти чувства на бедняжку Луизетту. Однако я продолжал делать вид, будто пекусь о Нути и переживаю за него, потому как иначе не мог: жертва Луизетты принуждала меня к этому, она была больше и великодушнее моей. В самом деле, если эта девушка готова страдать из чувства жалости к нему, то разве мог я, разве могли другие отказать ему в заботе, уходе, малейших проявлениях человечности, которые ни в какое сравнение не шли с ее участием в нем? Отступиться для меня означало признать и показать всем, что она страдала не просто из чувства жалости, а из любви к нему, да, главным образом из любви. А так не могло, не должно было быть. Мне пришлось прикидываться добрым и внимательным, ведь она должна была считать, что отдает ему свою любовь вместо другой женщины. И я, себя ненавидя, притворялся наилучшим образом. Только так я и смог изменить ее отношение ко мне и вновь сделать ее своим другом. Но при этом, выказывая ради нее жалость и сострадание к Нути, я упустил единственную, вероятно, возможность, какая была в моем распоряжении, вернуть ее самой себе: показать ей, что у Дуччеллы, которую она подменила и вместо которой думает, что любит его, нет никаких оснований испытывать к нему чувство жалости и сострадания. Наделив Дуччеллу жизнью и душой, призрак ее — сострадательный и нежный призрак, в который превратилась Луизетта, — должен был исчезнуть. И тогда осталась бы она, Луизетта, со своей неоправданной и невостребованной любовью. Нути требовал любви от Дуччеллы, а вовсе не от Луизетты, и она вместо Дуччеллы, а не ради себя дала ему эту любовь на глазах у всех.
Да, но если я знаю, что она действительно наградила его любовью, скрываясь под маской жалкого притворства, то о чем я тут рассуждаю, как софист?
Альдо Нути считает Дуччеллу бессердечной и жестокой; таким же Луизетта сочла бы и меня, сорви я с нее эту маску притворства. Она ряженая Дуччелла, и она любит и прекрасно знает, что настоящая Дуччелла не может любить его. Она это знает потому, что Альдо Нути, едва кризис миновал и исчезли галлюцинации, потерял к ней всякий интерес и лишь кисло, вяло благодарит за заботу и сострадание.
Возможно, она могла бы вновь обрести себя ценой еще большего страдания, при условии, однако, что Дуччелла станет ею, испытает к Нути настоящее чувство жалости и прибудет сюда, чтобы вернуть ему любовь и спасти его.
Но Дуччелла не приедет. А синьорина Луизетта — в душе и на глазах у всех — будет верить, что любит вместо нее Альдо Нути.
До чего глупы те, кто заявляет, что жизнь — тайна. Так говорят только несчастные люди, стремящиеся рациональным путем объяснить то, что никак объяснить нельзя.
Взять жизнь и поставить ее перед собой как объект для изучения — абсурд, в таком виде жизнь теряет всю свою осязаемую сущность, объемность и насыщенность, становится абстракцией, лишенной смысла и ценности. Да и как объяснить жизнь? Объясняя, вы убиваете ее. Вы занимаетесь анатомией, и в результате перед вами голый скелет.
Жизнь нельзя объяснить. Ее можно прожить. Разум — он заключен в жизни; вне жизни его нет. И не надо препарировать жизнь, надо чувствовать ее в себе, жить. Сколько людей, барахтавшихся в омуте страсти, выныривают на поверхность, как будто очнувшись от сна, и не задаются вопросом:
«Я? Как я мог быть таким? Неужели я мог это сделать?»
Они не в состоянии объяснить собственного поведения и понять, кто вообще может придать смысл и ценность вещам, которые для них уже лишены или еще не имели смысла и ценности. Они ищут смысл где-то вовне, тогда как он заключен в самих вещах. Могут они его найти? Вне жизни нет ничего. Постичь это ничто с помощью разума, превращающего жизнь в абстракцию, значит, еще жить, ощущать присутствие в жизни этого ничто — речь идет о чувстве тайны, о религии. Оно может быть сопряжено с отчаянием и безнадежностью, если человек лишен иллюзий; может приносить успокоение, и тогда мы вновь погружаемся в жизнь, но ныряем в нее уже оттуда, из этого ничто, которое успело стать всем.
Как хорошо я осознал это за несколько дней, с той поры как действительно стал чувствовать! Вернее, с той поры как стал чувствовать в том числе и себя, ведь присутствие в себе других я всегда ощущал, и поэтому мне было легко и просто объяснить их поведение и мысли и сжалиться над ними.
Но ощущение себя в настоящую сопряжено у меня с чувством горечи и досады.
И все по вашей милости, синьорина Луизетта! А ведь вы способны проявлять такое сострадание! Но как раз потому, что вы на это способны, я не могу открыть перед вами душу, не могу даже намекнуть. Я предпочел бы и себе в этом не признаваться и ничего не понимать. Однако нет, я уже не вещь, и мое молчание — это уже не молчание вещи. Хорошо бы окружающие заметили его, это молчание, но пока что только я один от него страдаю, да как страдаю!
И тем не менее продолжаю всех принимать в себя, хотя чувствую, что всякий входящий в мою душу, как в место надежного приюта, доставляет мне немалую боль. А лучше бы мое молчание смыкалось все плотнее и плотнее вокруг меня.
Вот Кавалена, бедняга, расквартировался во мне, как у себя дома. Приходит всякий раз, как выпадает свободная минута, и рассказывает с новыми подробностями о своих несчастьях и обо всякой чепухе, с ним связанной. Говорит, из-за жены держать здесь дольше Нути невозможно, надо найти ему пристанище где-то в другом месте. Две драмы одному дому не выдержать. К тому же драма Нути связана со страстью, с женщинами… А Кавалене нужны жильцы благоразумные, сдержанные. Он бы даже приплатил, если бы все мужчины стали серьезными, достойными, непорочными и безупречная их репутация ничем бы не была запятнана — так можно было бы одержать победу над зловредными женами, ополчившимися на весь род мужской. Кавалене приходится каждый вечер расплачиваться — платить дань, как он выражается, — за все прегрешения мужчин, о которых сообщают газеты, словно он виновник или соучастник всякого совращения и адюльтера.