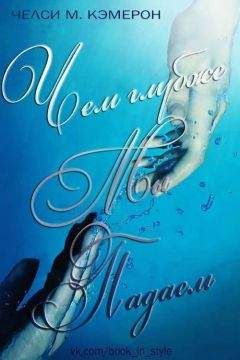Взволнованная этими словами и музыкой, Барбара заглянула глубоко в глаза Лейхтентрагера, а магистр — в глаза леди, после чего оба, загадав тайное желание, пригубили волшебного вина. Сэр Агасфер снова подал знак, позади него раздвинулся темный занавес, одна половина вправо, другая влево, открывая еще одну залу, не менее роскошную, чем столовая, только поменьше, а посреди нес — широкую кровать с мягкими подушками, над кроватью балдахин, полог которого расшит золотом и украшен золотой бахромой.
А теперь, возгласил сэр, пора обвенчать молодую пару, но так, чтобы все было честь по чести: дескать, он и леди станут свидетелями, а его друг Лейхтентрагер свершит по всем правилам надлежащий обряд не хуже самого господина магистра.
Затем он пригласил жестом Пауля и Барбару встать у изножья кровати. Лейхтентрагер внезапно оказался в священническом облачении — все черное, только кружевной воротничок белый; в руках он держал книгу, но была ли то Библия или же нет, Эйцен не понял, ибо в голове у него помутилось, и он одновременно видел себя у кровати с нареченной ему невестой, но мерещилось ему и то, что рядом с ним стоит Маргрит, причем нагая, словно Ева на картине виттенбергского живописца, мастера Кранаха, совершенно голая, если не считать драгоценного ожерелья и золотых браслетов.
Лейхтентрагер, раскрыв книгу, прочитал: «И сотворил Бог человека по образу и подобию Своему, по образу Божию сотворил его: мужчину и женщину. Ибо сказал Господь Бог: нехорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему. Муж, оказывай жене должное благорасположение; подобно жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви. Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Магистру хорошо знаком этот текст, он знает, что Лейхтентрагер зачитывает его дословно, точнехонько, до последней буквы, однако благочестивые слова звучат сейчас издевкой, даже святотатством, тем более что все помыслы его устремлены не к худосочной Барбаре, а к голой Маргрит, которую как ее хозяин и господин обнимал стоявший рядом еврей. Магистр вздрогнул от неожиданности, когда услышал вопрос Лейхтентрагера: «Желаешь ли ты, Пауль фон Эйцен, взять в жены из рук Божьих присутствующую здесь девицу Барбару Штедер и обещаешь ли любить ее, уважать и хранить ей верность, пока не разлучит вас смерть?» — «Да», — ответил он, но не потому, что хотел, просто он почувствовал, что все это предначертано ему с того памятного дня и той встречи в лейпцигском трактире «Лебедь»; затем он услышал, как Лейхтентрагер обратился к Барбаре, спрашивая, желает ли она взять в мужья присутствующего здесь Пауля фон Эйцена, всецело повиноваться ему и быть всегда покорной, пока ее с ним не разлучит смерть, до него донесся ее утвердительный ответ, он увидел, как Лейхтентрагер, воздев руку, благословил новый брачный союз во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, словно он действительно посвящен в церковный сан и чуть ли не распоряжается по-свойски Святой Троицей. Затем он увидел, как Барбара тут же легла на кровать и простерла руки, только не к нему, а к его приятелю Гансу. Тот же наклонился, расстегнул пряжку на башмаке, причем со своей хромой ноги, снял башмак и положил поверх одеяла на живот невесты, приговаривая: «Знай же, под чьим сапогом ты отныне будешь жить и кто твой господин»; и Маргрит, или принцесса Трапезундская, или леди, принялась хлопать в ладоши, корчась от смеха. Сэр Агасфер был более сдержан, он лишь слегка улыбнулся и спросил, не собирается ли господин магистр присоединиться к новобрачной.
С этими словами сэр Агасфер, взяв леди под руку, удалился, Лейхтентрагер последовал за ними, занавес опустился, и в опочивальне, кроме молодоженов, осталась только сладчайшая музыка. Вожделение захлестнуло Эйцена, ему вспомнились слова Ганса о том, что Бог снабдил всех женщин одним и тем же устройством, поэтому, не мешкая зря, он сбросил с себя праздничную одежду и залез под одеяло к Барбаре, которая уже раскинула ноги и подалась к нему так страстно, будто с малых лет только и занималась любовью; с придыханиями и стонами она просила: «Еще, мой любимый, еще!» — что было весьма приятно Паулю, но только до тех пор, пока он не услышал, как Барбара принялась расхваливать его чудный горбик, густые волосы на груди и прочее. Тут Пауль догадался, что на ней лежит инкуб, но почувствовал, что и сам лежит не на Барбаре, нет, под ним — голая Маргрит, и он то пускается в бешеный галоп, то томно замедляет прыть, она же обнимает и прижимает его к себе, пока наконец ему не показалось, что вся жизнь истекает из него, оставляя иссохшую оболочку.
На какое-то время наступило затишье. Потом он взял Барбару за руку, и они заснули. Когда же по прошествии многих часов они проснулись, то увидели серое утро; они лежали в вонючей кровати, которая стояла у стены жалкой каморки с мусором по углам и паутиной; ни Пауль, ни Барбара не могли понять, как они попали сюда, в одну из скверных пригородных ночлежек, куда подевалась их выходная одежда и откуда взялось вместо нее жалкое тряпье, которое пришлось натянуть на себя. Когда они прокрались по лестнице вниз, навстречу выскочила хозяйка ночлежки и принялась орать, требуя плату, восемь гамбургских грошей, а где их брать, если в кармане нет ни пфеннига; Паулю не оставалось ничего другого, как послать за деньгами в контору брата, а пока они ждали посыльного, над Эйценом и Барбарой потешался всякий сброд, желая узнать, как они провели ночь, хорошо ли он ублажил невесту и много ли синяков осталось у него на теле от ее костяшек.
в которой приводятся размышления о том, почему самые отъявленные революционеры становятся наиболее суровыми охранителями порядка, и в которой говорится о взаимозависимости утверждения и отрицания, а также о том, сколь трудно создать Царство свободы.
Мы парим.
Парим в глубинах пространства, которое именуется Шеолом и простирается за пределами творения, вне тьмы и света, в некой бесконечной кривизне.
Здесь можно говорить спокойно, сказал Люцифер, тут нет ни Бога, ни Его приспешников, созданных из духа или материи; здесь — Ничто, а у него нет ушей.
А я ничего не боюсь, сказал я.
Люцифер криво усмехнулся. У того, кто, вроде тебя, желает изменить мир, есть основания опасаться за собственное благополучие.
Что-то похожее на дуновение касается нас, но это не ветер, а поток частиц, из которых состоит Ничто и которые блуждают от одного Ничто к другому.
Я искал тебя, брат Агасфер, сказал он.
А где остальные? — спросил я. Где твои темные воинства, которых низвергли с небес вместе с тобой и мной за то, что мы не послушались Бога и не поклонились человеку, созданному Им по Своему подобию из песчинки праха земного, из капли воды, из дуновения воздуха и искры огня? Где они?
Здесь все теряется, ответил он.
Я увидел, как его знобит от великой стужи, объявшей нас, и понял, зачем он меня искал, ибо страшнее, чем Ничто, есть мысль о его вечности.
Я следил за тобой и твоими делами, сказал он. Ты восстал, но каждый раз терпел поражение и был сломлен. Тем не менее, ты не теряешь надежды.
Бог есть движение перемен, сказал я. Когда Он создал мир из ничего, он изменил Ничто.
Это было прихотью, сказал он, случайностью, единственной и неповторимой. Недаром Бог, осмотрев на седьмой день Свое творение, тут же провозгласил, что все прекрасно именно таким, каким получилось, и поэтому таким мир должен сохраниться на все времена — с его верхом и низом, с архангелами, ангелами, херувимами, серафимами и прочим небесным воинством, где у каждого свой чин и свое место, а венцом творения поставлен человек. Бог похож на всякого, кто однажды что-то изменил; все тут же начинают трястись над своим творением и бояться за собственное положение, отъявленные революционеры становятся суровейшими охранителями существующего порядка. Нет, брат Агасфер, Бог есть сущее, Бог есть закон.
Если бы это было так, сказал я, зачем же тогда Он послал Своего единородного сына искупать страданиями грехи мира? Разве искупление не является обновлением?
Мы парим.
Люцифер обнял меня, словно нас ничто не разделяет, ни различие во взглядах, ни разница в понимании цели, он сказал: Ты ведь тоже знал Равви.
Я вспомнил реббе Йошуа, каким он был в пустыне — борода свалялась, живот опух; вспомнил, как вознес его на вершину высокой горы, чтобы он взглянул оттуда на творение своего Отца, на все беды и несправедливости мира, сказал ему, что пора ему брать дело в собственные руки, ибо настало время создавать истинное Царство Божие; он же ответил мне: Мое царство не от мира сего.
Но чего же добился Равви? — спросил Люцифер. Разве с тех пор, как его распяли, в мире стало меньше зла, разве землю не поливают кровью даже больше прежнего? Разве волк мирно уживается с овцой и человек человеку стал братом? Почему ты не пойдешь к нему туда, где он сидит ныне одесную своего Отца, и не спросишь его об этом? Уж тебе-то он должен ответить.