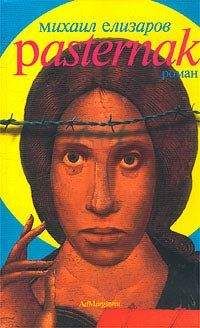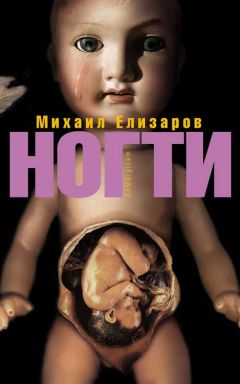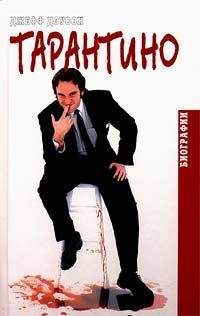Ознакомительная версия.
Еще студентом физико-математического факультета Московского университета дядя познакомился с Павлом Флоренским и, увлеченный его примером, сам испытал духовный перелом, предпочел математической карьере православие, для чего поступил вслед за Флоренским в Московскую духовную академию. Окончив курс, он некоторое время преподавал на кафедре философии, потом принял рукоположение, не занимая приходской должности. Какое-то время писал для «Богословского вестника», где редактором являлся Флоренский.
После революции дядя принимал деятельное участие в организации работы Пастырских курсов и Богословского института — единственных в Петрограде после закрытия Академии центров православного обучения, много выступал с лекциями в открывшемся Доме ученых, где в контексте науки выступал на религиозные темы.
В двадцать седьмом году митрополит Сергий выпустил печально известную июльскую Декларацию о необходимости компромисса с советской властью ради сохранения церкви. Часть священников во главе с митрополитом Ленинградским Иосифом отвергла этот документ, довершив раскол церкви на «иосифлян» и «сергиан».
Дядя Григория, по всей видимости, принял бы участие в составлении ультиматума к митрополиту Сергию, происходившем на квартире протоиерея Феодора, с которым дядя был также знаком, но с двадцать шестого года дядя находился в заключении, откуда не вернулся.
Возможно, всю его семью постигла бы печальная участь, но через какие-то окольные ходатайства, вплоть до жены Горького (тут помог Павел Флоренский), тете, двум дядиным дочерям и шестнадцатилетнему Григорию позволили уехать в провинцию.
Григорий вырос в среде либерального столичного священства, философов и публицистов, чей авторитет был основным стержнем его натуры. Он мыслил тогда малыми личными категориями. Слова митрополита Сергия, что всякая власть от Бога, ибо нет пределов Всемогуществу Его, даже если бы и дошли до Григория, то не произвели бы должного впечатления. Гибли знакомые ему люди, всецело принадлежавшие той самой церкви, которая неожиданно благословила убийц.
Он не мог не примкнуть душой к гонимым иосифлянам и расколу. Собственно, речь тогда еще не шла о раскольничестве. Даже приезжавший в Ленинград увещевать иосифлян епископ Мануил, выступая в Троице-Измайловском соборе, старался избегать категоричных заявлений и говорил о временной смуте, сетуя, что в число иосифлян попали столь достойные священники.
Был закрыт храм Воскресения на Крови. В двадцать восьмом году из столицы выслали Флоренского. В тридцатом были расстреляны многие епископы и протоиереи. Митрополит Иосиф, епископ Сергий Нарвский были сосланы в концлагеря. К тридцатому году оставалась только одна иосифлянская церковь Тихвинской Божией Матери в Лесном.
Благодаря теткиным уговорам для конспирации Григорий пошел учиться в педагогический техникум, через два года закончил его и устроился работать в сельской школе учителем математики. Тетя и сестры оставались в городе. Григорий решил, что так будет лучше и безопаснее для его близких.
Деятельность Григория была тесно связана с запрещенным катакомбным священством, подпадающая под статью пятьдесят восьмую, подпункты десять, одиннадцать: «Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению советской власти, а равно и распространение или изготовление литературы того же содержания», — с возможностью сесть на десять лет.
В тридцать третьем, в год второго ареста Павла Флоренского, он был тайно рукоположен в священники. Обряд над ним свершал еще настоящий епископ. Это уже после Кочующего Собора иосифлян разрешалось епископу рукополагать епископа. Даже в Соловецких лагерях проводились хиротонии, и новоявленных епископов появилось много.
Тайные богослужения катакомбников, или, как они сами себя называли, истинно-православных, начались с двадцать восьмого года, происходили на квартирах, в подвалах, в помещениях больниц. Причащались священными дарами, сохраненными с досергиевских времен.
В деревнях было хуже. Крещение совершали повивальные бабки, а миропомазание иногда заменялось тем, что новорожденного мазали вазелином. Таинство елеосвящения упрощалось до того, что у постели больного ставилось блюдо с зерном, в которое помещали семь горящих свечей, умирающему давали выпить святой воды, и кто-нибудь из людей божьих молился о прощении грехов. В народе опять появились «Христы», «Богородицы» и пророки.
Потом началась война. Истинно православное духовенство поощряло дезертирство и уклонение от призыва, считая присягу служением Антихристу. Григорий же ушел на фронт.
Он провоевал до сорок четвертого. После тяжелого ранения демобилизовался и вернулся к семье. Тетя умерла, сестры работали на заводе. Григорий, окрепнув, решил продолжить учительскую деятельность, по-прежнему совмещая ее со священнической.
Катакомбные смотрели на бывшего фронтовика косо. И сам Григорий все больше разочаровывался — истинное православие точно уронили, и оно разлетелось на множество осколков, острых и опасных, с названиями, больше напоминающими недобитые банды: «климентьевцы», «матвеевцы», «мечевцы».
Перебравшись в город, Григорий начал посещать сергианские храмы как скромный незаметный прихожанин. Связи с катакомбниками еще сохранялись до шестидесятых годов, потом практически оборвались, Григорий лишь иногда писал статьи для религиозно-философского самиздата. Вернуться в официальную церковь в качестве священника он не хотел. От прежней жизни неизменной оставалась только дядина библиотека, примечательная уже тем, что на полках попадались книги Флоренского, Бердяева, Булгакова с дарственными надписями самих авторов.
Собственной семьи Григорий так и не завел. Младшая сестра еще в пятидесятых годах вышла замуж и уехала на Украину. Григорий жил вместе со второй сестрой, так и оставшейся старой девой.
Уже и некому было вспомнить о том, что учитель математики и ветеран войны когда-то вел жизнь тайного священника. В конце застойных семидесятых он вышел на пенсию. Через десять лет умерла сестра.
Больше восьми лет Григорий прожил один. Он стал свидетелем внезапного возрождения православия. Его это несказанно радовало. Он было принялся за религиозную публицистику, к нему стали захаживать университетские люди.
Потом неожиданно рухнула империя, и дальнейшая жизнь государственного четвертованного обрубка напомнила Григорию муки калек-«самоваров», с оторванными конечностями, виденных им в сорок четвертом в госпитале. Людям, новообращенным в православие, за каких-то пять лет прискучило быть христианами. Григория это не особенно удивляло. Подобное уже случалось в истории России. Ему были памятны дядины размышления о русской интеллигенции, склонной к гностическим рецидивам. Тогда, в двадцатых годах, советская власть своим отсекающим все и наотмашь скальпелем спонтанно устранила этот эзотерический нарыв. Теперь он снова гноился оккультным сознанием, целительством, шаманством, ведьмачеством, астрологией из всех информационных пор.
Григорий понимал, что и этот бурный всплеск язычества когда-нибудь уймется, а если нет — тоже не важно. Согласно Апокалипсису, люди сами вершат земную историю, добровольно обращаясь в антихристову веру, подготавливают мир к триумфальному приходу князя из Тьмы.
Поэтому бывший катакомбный священник бесстрастно и трезво наблюдал из своей двухкомнатной, со всеми удобствами, кельи, как все больше утверждается порядок, о котором предостерегало Писание. Он мало общался с людьми, иногда через знакомых к нему по-прежнему обращалась университетская клиентура за какой-нибудь редкой книжкой.
Цыбашев пришел по указанному адресу. Дверь ему открыл глубокий старик, узнал в чем дело, и с усмешкой произнес: «Добро пожаловать в мои катакомбы». Цыбашев получил все книги, в которых нуждался, через неделю принес обратно, и тогда отец Григорий сказал ему, что он может оставить их себе.
Цыбашев помнил, с какой фразы отца Григория началось его перерождение. Он спросил, благодарно прижимая к груди подаренные книги, неужели священник сам не захочет их перечитать? И отец Григорий сказал, что нет, перечитывать он не будет.
Потом был разговор о литературе, и, кажется, тогда отец Григорий в шутку заметил, что единственная книга, которую он не устает перечитывать, это второй том «Мертвых душ», только не известная всем уцелевшая часть, а полный вариант, погибший в огне.
Тогда Цыбашев подумал, что в удивительной библиотеке священника хранится вариант уцелевшего гоголевского манускрипта или даже литературная подделка, но все равно уникальная по своей значимости.
Но отец Григорий уточнил, что имеет ввиду именно книжный пепел и великий подвиг писателя, отказавшегося от творчества, чтобы не грешить против истины.
Ознакомительная версия.