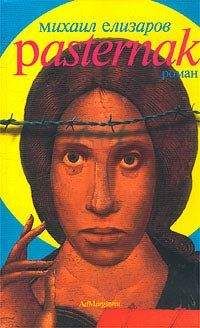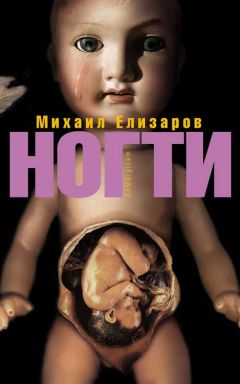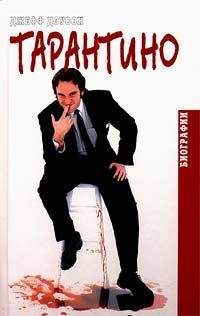Ознакомительная версия.
Он говорил о трагедии человека, который в самом начале своего труда верил в религиозное призвание литературы, а под конец до того испугался увидеть беса в желтоватой прозрачности собственных книжных листов, что сжег последний труд и уморил себя. Гоголь, больше других желавший, чтобы его творчество нравственно преображало людей, почуял опасность ввести в соблазн себя и окружающий мир, сделав книгу проводником демонического.
Сказано все это было в полушутку, но на Цыбашева слова священника произвели впечатление.
Затем были следующие вечера и новые разговоры: «Ты по университетской традиции делишь книги на „плохие“ и „хорошие“, а это спорные категории, — учил отец Григорий. — С моей точки зрения, книги могут быть либо религиозными, либо светскими… В религии лежат истоки художественной литературы. Она тоже своего рода литургия, только повторенная на свой лад автором. Так, каждый писатель в некотором смысле религиозен, поскольку вдыхает жизнь в придуманные образы, но это, выражаясь в дантовской терминологии, лишь „Божественная Пародия“ на действительную связь между человеком и Богом, „похоть очей“, как говорил апостол Иоанн… Принято говорить, что светская литература также дает представление об этике, морали и способна подтолкнуть к размышлениям о высоких материях. Но человеку, приучившему себя однажды питаться „художественным“, опошленным бытием, „божественное“ становится не по вкусу.
Чтение растворяет личность, она живет чужими эмоциями, отдавая душу на растерзание бумажным, но от этого не менее пагубным, страстям. Литература схожа со склепом, в котором страница за страницей, камень за камнем замуровывается дух…
Неспроста даже в церквях пономари читали чувственные библейские псалмы, не интонируя. Единственная возможность донести смысл молитвы не искаженным — это бесстрастное чтение…»
Отец Григорий стоял у окна, глядел во тьму, расцвеченную, как тритон, желтыми электрическими огнями, и говорил в своей всегдашней манере: «Наивно думать, что классическая литература более возвышенна. Часто она как та музыка Чайковского — дивные звуки, исторгнутые анальной лирой педераста. Невозможно в жизни быть последним извращенцем, а сев за письменный стол или рояль, став у мольберта, чудно преобразиться… У светского нет и не будет доступа к духовному…»
* * *
Священник быстро завербовал на свою сторону ничейного студента-филолога. А Цыбашев слушал и будто вспоминал настоящего себя. Слова отца Григория, здравые и совершенно не елейные, извлекали Цыбашева из-под хлама, которым его забрасывали в течение всей прежней жизни.
«Попытка человека создать религию из себя — величайшая ложь и соблазн. Поклонение тому, что не Бог, и есть язычество. Художественная литература стала новой религией, и поэт, ее пророк, прославил не Бога, а божка. Так появились во множестве книги, как глисты сосущие христианство. Люди предпочли подлинному Евангелию писательскую романную или стихотворную весть… Автор создает текстовую оболочку, признанную обществом образцом духовности, и эта оболочка начинает служить для выражения совершенно иного содержания. Дьявол набрасывает на себя эту книжную шкуру, проникает в порожние слова о Боге. За короткий срок в оболочке поселяется одетый в духовный костюм Бога другой владыка, у которого свое Евангелие. Так, уже умерший автор может сделаться разносчиком демонической заразы. С людьми же, попавшими под влияние подобных оболочек, происходит своего рода духовное облучение. Они дышат гнилью, пьют ее и едят, не замечая, как невидимая болезнь неумолимо образует метастазы на внутренностях души. И чем дольше это продолжается, тем больше продуктов духовного распада оседает во внутренностях души…»
Цыбашев, желая угодить священнику, заводил беседы о целом поколении, выросшем на мастер-и-маргаритной карамели с дьяволом внутри. Роман, залитый сахарной духовностью, в неожиданной интерпретации Цыбашева представал явлением более страшным, чем откровенный сатанинский трактат.
Отец Григорий улыбался и, остужая мнимый инквизиторский пыл собеседника, замечал, что роман о человеке робком и слабом, точно в насмешку названным Мастером, который за свои юродивые художества по мотивам Евангелия обрекается на безумие, становясь законной добычей Дьявола…»
Литература знала множество временных властителей дум. Каждое имя на разные сроки делалась более или менее активным пристанищем дьявола, а потом либо оставлялось как отработанная шахта, либо помаленьку эксплуатировалось.
В определенный момент явился спрос на книги, воспроизводящие «духовные ценности». Самостоятельно ли, с помощью ли бесов, как-то определился необходимый процент обогащенной духовности, по которому общество судило о произведении. Дело оставалось только за автором, более или менее выполняющим в текстах ударную духовную норму. Так появлялась оболочка, посредством которой дьявол как через лаз проникал прямо в душу.
Сами «духовные ценности» оказались с секретом. Вначале они были очень похожи на христианские. Потом само же общество переименовало их в более гуманные, «общечеловеческие», причем процентная духовность от этого ничуть не уменьшилась. Наоборот, добыча ее возрастала с каждым годом, но только сами ценности видоизменялись до того, что откровенно противоречили христианской традиции. Но подступиться к ним с критикой уже было проблематично…
Когда-то опасной, а теперь брошенной оболочкой был Лев Толстой. Цыбашеву вдруг делалось понятно, почему человек, казалось, искренне зла не принимавший, посеял истинное зло и в свое время был справедливо отлучен от церкви, которую презирал и ненавидел. Писательские кощунства, вроде эпизода с глумливым описанием православной литургии, сами по себе не делали оболочку оплотом демона. Но только демоническое вмешательство могло искусно повернуть мнение общества так, что полное скорби Послание Синода: «…Церковь не считает графа Толстого своим членом и не может считать, доколе он не раскается и не восстановит своего общения с нею. Многие из ближних его, хранящих веру, со скорбию помышляют о том, что он, в конце дней своих, остается без веры в Бога и Господа Спасителя нашего, отвергшись от благословения и молитв Церкви и от всякого общения с нею. Посему, свидетельствуя об отпадении его от Церкви, вместе и молимся, да подаст ему Господь покаяние в разум истины. Молимтися, милосердый Господи, не хотяй смерти грешных, услыши и помилуй и обрати его ко святой Твоей Церкви. Аминь», — представилось актом жестоким и вопиюще антидуховным.
Так оболочка стала «зеркалом русской революции», а потом была отметена ради новой, более перспективной. От использованного Толстого остался только высохший покров — школьная классика, окаменевшая как ископаемый кал.
Заброшенной оболочкой был Пушкин, чей поэтический хитиновый панцирь был давно уже пуст, и только в последнее время кто-то усиленно пытался превратить его в действующую оболочку — их, видимо, не хватало, а новые не появлялись.
* * *
Ум Цыбашева быстро пьянел в незнакомой ему атмосфере религиозной культуры. Но отец Григорий всегда уберегал его от крайних суждений. Спокойную духовную середину отец Григорий называл трезвостью и почитал одной из важнейших добродетелей. Он призывал Цыбашева не к литературофобии, а всего лишь к здравому осознанию своего места, умению отделять свой взгляд от настроений века и сверять его с православными эталонами.
«Не нужно думать, что художественная литература — зло. Она становится его носителем только в том случае, когда начинает претендовать на духовность, а вот на нее у литературы никогда не было прав. Духовность отсутствует как понятие в этом вымышленном мире. Художественные ландшафты разняться только степенью демонического… Вред от грубого скоморошничания „Луки Мудищева“ невелик. Откуда там завестись дьяволу? Спрятаться негде. А заумный пафос какой-нибудь „Розы Мира“ в сотни раз опаснее своей лживой спиритической мимикрией под духовность… С петровских времен, когда было унижено православное священство, люди предпочли проповеди светскую книжную литургию. Вслед за христианским Западом и Россия потеряла чувство духовного самосохранения, забыв, что религия не исторический пережиток, а оружие против невидимого и безжалостного врага. Каждое поколение вносило свою лепту в разрушение мистических церковных бастионов, ослабление Христова воинства…»
Взгляд Цыбашева задержал Пастернак. По своему типу он очень подходил, чтобы стать оболочкой. Имя было значительно и в то же время не особо выпирало из поэтической таблицы. Но стоило взять его в руки и рассмотреть поближе, сразу ощущался его идеологический удельный вес, точно среди алюминиевых форм затесался такого же объема кусок урана.
Настораживала его удивительная защищенность, но не только авторитетом Нобелевской премии. Существовало нечто более прочное, чем общественное мнение. Пастернак каким-то непостижимым образом оказывался вне критики негативной. Имя с религиозным экстазом произносилось либеральной интеллигенцией. Цыбашев даже помнил где-то вычитанную фразу о Пастернаке как о «духовной отдушине».
Ознакомительная версия.