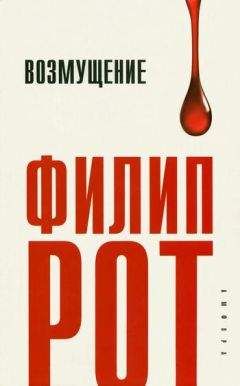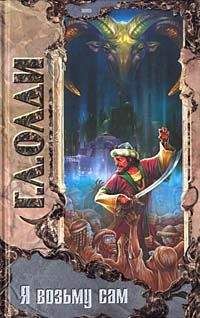Мне надо было уехать, но я не знал куда. Все колледжи были для меня одинаковы. Оберн. Уэйк-Форест. Болл-Стэйт. Колледж при Южном методистском университете. Вандербилт. Маленберг. Для меня это были всего лишь названия выступавших за колледжи футбольных команд. Каждую осень я жадно слушал результаты стыковых игр по радио в субботнем обозрении спортивных новостей Билла Стерна, но академические различия между колледжами оставались для меня тайной за семью печатями. «Луизиана-Стэйт» набрала тридцать пять очков, «Райс» — двадцать, «Корнелл» — двадцать одно, «Лафайет» — семь, «Норсвестерн» — четырнадцать, «Иллинойс» — тринадцать. Вот и вся разница. А так один колледж ничуть не хуже любого другого: ты поступаешь туда и выходишь оттуда с дипломом и первой научной степенью, вот и все, что имеет значение для семьи без особых запросов вроде нашей. Я поступил в колледж в деловой части Ньюарка, потому что до него было рукой подать и потому что учеба там была нам по средствам.
И это меня вполне устраивало. На самом старте своей взрослой жизни, еще до того, как начались всяческие неприятности, я обладал замечательной способностью довольствоваться малым. Этим я отличался еще в детстве, да и на первом курсе в колледже Трита не утратил чудесного дара. Все в колледже приводило меня в трепет. Я быстро начал боготворить преподавателей и заводить друзей, в большинстве своем происходивших из трудовых семей вроде нашей и образованных не более моего, если не менее. Кое-какие из новых приятелей были евреями и учились со мной в средней школе, но далеко не все, и меня поначалу погружала буквально в гипнотический транс перспектива — и возможность! — разделить ланч с ирландцами или итальянцами именно потому, что они были для меня существами другой породы — не только другими ньюаркцами, но и, так сказать, жителями другой планеты. И, конечно же, меня восхищали курсы лекций сами по себе, при всей их элементарности; они будоражили мой мозг точно так же, как в свое время — при первом знакомстве — буквы алфавита. К тому же, когда здешний преподаватель физкультуры просто-напросто вытолкнул меня на бейсбольное поле (меня, все старшие классы недурно игравшего в школьной команде) и попробовал было поставить на первую позицию в жалкой сборной первого курса — а произошло это весной, — я окончательно закрепился в составе на месте второго опорного защитника, на два-три шага позади от нашего главного стоппера Анжело Спинелли.
Но прежде всего я учился, на каждой лекции или практическом занятии открывая для себя что-нибудь новое; и мне особенно нравилось то, что наш колледж был таким маленьким и непритязательным, более походя не на учебное заведение, а на районный клуб по интересам. Колледж Трита скромно стоял на северном краю деловой части города, с ее офисными зданиями, универмагами и специализированными магазинчиками (как правило, семейными), на задворках маленького треугольного Парка Войны за независимость, где обитали главным образом бомжи и ханыги (большинство из которых мы знали по имени), зажатый между парком и мутной рекой Пассейик. Колледж размещался в двух разнесенных довольно далеко друг от друга непримечательных строениях: в здании старой, заброшенной и прокопченной, пивоварни, расположенном возле прибрежной промышленной зоны и переоборудованном под аудитории и лаборатории (здесь я занимался биологией), и — за несколько кварталов оттуда, через окружную дорогу, посреди парка, который был у нас вместо кампуса и где мы в полдень, рассевшись по скамейкам, поедали приготовленные на заре бутерброды, пока на соседней скамье бомжи пускали по кругу бутылку дешевого муската, — в маленьком четырехэтажном особнячке неоклассического стиля, с колоннами у главного входа, выглядящем снаружи точь-в-точь как небольшой банк, который и занимал это здание чуть ли не всю первую половину двадцатого столетия. Здесь находился ректорат, и здесь же — временно — располагались аудитории, в которых мне преподавали историю, английский и французский, причем преподавали профессора, называвшие меня мистером Месснером, а не Марком или Мариком и регулярно дававшие письменные задания, каждое из которых я старался выполнить и сдать первым. Мне не терпелось превратиться во взрослого человека, в хорошо образованного, зрелого, независимого взрослого человека, что, собственно говоря, и устрашало моего отца, который, пусть он и отлучал меня от дома (запирая изнутри на два замка обе двери) за малейшее проявление признаков и прерогатив взрослости, не переставал гордиться моими академическими успехами и уникальным в нашей семье статусом студента колледжа.
Первый курс стал для меня самым упоительным и вместе с тем самым чудовищным временем жизни, поэтому я и решил перебраться на следующий год в Уайнсбург, маленький колледж изящных искусств с инженерно-техническим отделением, находящийся в сельском округе в северной части центрального Огайо — в восемнадцати милях от озера Эри и в пятистах милях от запертой изнутри на два замка двери черного хода в Ньюарке. Живописный кампус Уайнсбурга, с высокими раскидистыми деревьями (позднее подруга сказала мне, что это вязы) и четырехугольными двориками меж стен, увитых плющом, красиво расположенный на вершине холма, вполне мог бы послужить естественной декорацией (или, как говорят в кино, натурой) для какого-нибудь мюзикла про студентов, в котором герои, вместо того чтобы учиться, круглыми сутками поют и пляшут. Дабы заплатить за мое обучение в иногороднем колледже, отцу пришлось избавиться от Айзека, вежливого и тихого ортодоксального иудея с непременной кипой на голове, который был нанят, когда я пошел учиться в колледж Трита, а моей маме (которой Айзек помогал в мясной и которую, как поначалу предполагалось, должен был впоследствии полностью освободить от работы в нашем магазинчике) — вновь начать работать на равных с отцом. Только так ему удалось бы свести концы с концами.
Меня определили в комнату в Дженкинс-холле, которую мне пришлось делить с тремя соучениками — и все они, как я обнаружил, были евреями. Подобный подход несколько удивил меня: во-первых, я ожидал, что меня поселят в комнату на двоих; а во-вторых, идея отправиться на учебу в далекий штат Огайо отчасти была подсказана желанием окунуться в совершенно нееврейскую среду и понять, что это такое. И отец, и мать сочли эту затею странной и даже опасной, но я в свои восемнадцать не сомневался в собственной правоте. Стоппер Спинелли (учившийся, как и я, на юриста) стал моим лучшим другом в колледже Трита, и когда он пригласил меня к себе домой, в итальянский квартал, познакомиться с семьей и с национальной кухней, посидеть и послушать, как они разговаривают с сильным акцентом и подшучивают друг над другом, то и дело срываясь на родной язык, это показалось мне ничуть не менее увлекательным, чем растянутый на два семестра курс истории западной цивилизации, каждая лекция которого буквально открывала мне глаза на то, каким был мир задолго до моего появления на свет.
Комната в общежитии была длинной, узкой, дурно пахнущей и слабо освещенной, с обшарпанным дощатым полом, двухъярусными кроватями и четырьмя старыми, неуклюжими и искорябанными деревянными столами, приткнутыми к коричневато-зеленым стенам. Я занял нижнюю койку, а у меня над головой уже расположился тощий и долговязый брюнет-очкарик по имени Бертрам Флассер. Когда я попытался познакомиться с ним, Флассер не удосужился протянуть мне руку и посмотрел на меня так, словно увидел перед собой насекомое неизвестной породы, от встреч с которым его до сих пор миловал бог. Двое других соседей тоже уставились на новичка разве что не с презрением, но я все же назвал им свое имя, и они ответили тем же, вследствие чего я с готовностью ухватился за мысль, будто единственный настоящий сумасшедший в этой комнате — Флассер. Все трое учились на отделении английского языка и литературы на младших курсах и состояли членами местного драмкружка. И никто из них не входил ни в одно из здешних братств.
В кампусе насчитывалось двенадцать братств, но лишь в два из них принимали евреев — в маленькое стопроцентно еврейское братство с примерно полусотней членов и в межконфессиональное братство (вдвое меньше еврейского), основанное группой студентов-идеалистов, привлекающих в свои ряды любого, до кого им удастся дотянуться. В остальные десять брали исключительно белых христиан мужского пола, что никак не следовало считать чем-то вызывающим или даже оскорбительным в кампусе, кичащемся своей приверженностью старым добрым традициям. Домики христианских братств, с их внушительными гранитными фасадами и дверями, стилизованными под замковые ворота, первым делом бросались в глаза на Бакай-стрит — широкой трехполосной улице, или, вернее, бульваре, на газоне которого стояла пушка эпохи Гражданской войны, стреляющая (если верить рискованной шутке, которую первым делом пересказывали новичкам) каждый раз, когда мимо нее проходит невинная девушка. Бакай-стрит, начинаясь в кампусе, шла по жилым кварталам с чистенькими старомодными особнячками, утопающими в тени высоких деревьев, до самой Мэйн-стрит — главной и единственной деловой артерии всего городка, растянувшейся аж на четыре квартала от моста через Винный ручей в одном конце до железнодорожной станции в другом. Самым важным зданием на Мэйн-стрит был «Нью-Уиллард-хаус» — гостиница и питейное заведение, в главном зале которого в субботние вечера футбольных матчей собирались выпускники колледжа вспомнить за кружкой или за стопкой о старом добром времечке. Здесь мне, получившему направление в студенческом бюро по трудоустройству, предстояло по пятницам и по субботам работать официантом на минимальной ставке семьдесят пять центов в час плюс чаевые. Внеклассная жизнь колледжа, в котором насчитывалось примерно тысяча двести студентов, распределялась более-менее поровну между тем, что происходило за массивными черными, усеянными гвоздями дверьми в домиках братств, и пребыванием на свежем воздухе, то есть на принадлежащих все тем же братствам шикарных газонах, на каждом из которых практически в любую погоду гоняли мяч по двое-трое студентов.