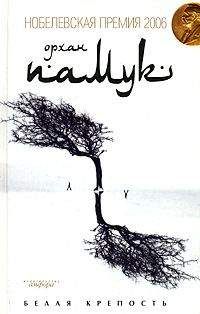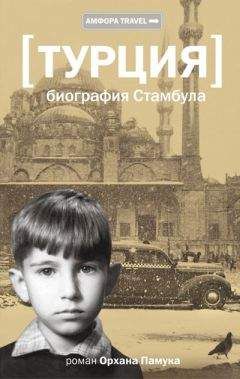Через неделю ночью ко мне пришел кяхья, взял с меня клятву, что я не сбегу, и снял цепи. Меня продолжали водить на работу, но надсмотрщики были ко мне милостивы. Еще через три дня кяхья принес мне новую одежду, и я понял, что Паша мне покровительствует.
По ночам меня приглашали в особняк. Я давал лекарства старым пиратам, которых мучил ревматизм, и молодым солдатам, страдавшим желудочными болями, пускал кровь чесоточным и тучным людям, страдавшим головными болями. Я поил микстурой сына-заику одного из слуг Паши, и переставший через неделю заикаться мальчик прочитал мне стихотворение.
Так прошла зима. Весной меня не беспокоили несколько месяцев, и я узнал, что Паша с флотом отправился в Средиземное море. Жарким летом люди, видевшие мои отчаяние и гнев, убеждали меня, что я не должен жаловаться на свое положение, что я зарабатываю хорошие деньги врачеванием. Один бывший раб, много лет назад принявший мусульманство и женившийся здесь, посоветовал мне бежать. Они обманывают меня, они никогда не разрешат вернуться на родину рабу, который им полезен. Свободу я получу, только если, как он, приму мусульманство. Я подумал, что он, возможно, вызывает меня на откровение, и сказал, что у меня нет намерения бежать. Хотя не было у меня не намерения, а смелости. Всех беглых ловили достаточно быстро. Их избивали, и потом в камерах я прикладывал мазь к ранам несчастных.
К осени Паша вернулся с флотом из похода; пушечными залпами он приветствовал падишаха, старался устроить праздник для города, как в прошлом году, но ясно было, что этот поход не был удачным. И в тюрьму привели мало пленных. Потом мы узнали: венецианцы сожгли шесть кораблей. Я искал возможности поговорить с пленными, надеялся получить какие-нибудь вести с родины, но большинство новых пленных оказались испанцами; они были молчаливы, необразованны и напуганы, они просили только помощи и хлеба. Лишь один из них показался мне интересным: ему оторвало руку, но он не терял надежды и говорил, что такие же испытания выпали на долю одного из его предков, и когда тот освободился, то уцелевшей рукой стал писать приключенческие романы; он надеялся, что его ждет такая же судьба. Я вспоминал этого человека, когда придумывал рассказы, — чтобы жить, а этот человек мечтал жить, чтобы сочинять рассказы. Через некоторое время в тюрьме вспыхнула эпидемия, унесшая больше половины пленных рабов; я уцелел благодаря взяткам, которыми буквально задушил охранников, — поэтому я жил в отдельной каморке и не заразился.
Выживших стали выводить на новые работы. Я никуда не ходил. Вечером пленные рассказывали, что их водили на другой конец Золотого Рога[16], и там они работали у столяров, портных, красильщиков, сооружавших из картона корабли, крепости и башни. Потом мы узнали, что Паша собирался женить сына на дочери главного везира и готовил пышную свадьбу.
Как-то утром меня вызвали к Паше. Я отправился, думая, что у него осложнения с легкими. Паша был занят, я сидел в комнате и ждал. Через некоторое время открылась боковая дверь и вошел человек лет на пять старше меня, я посмотрел на него и замер: меня охватил ужас!
Вошедший человек был удивительно похож на меня. Это был я! Так я подумал в первую секунду. Будто кто-то, желающий разыграть меня, снова ввел меня в комнату через дверь, находившуюся напротив двери, в которую до этого вошел я; он будто говорил: смотри, ты должен быть таким, вот так ты должен был войти, вот так должны были двигаться твои руки, вот так должен был смотреть на тебя сидящий в комнате! Мы поздоровались, глядя друг другу в глаза. Он, однако, не казался удивленным. Тогда я решил, что не так уж он и похож на меня, у него была борода; я словно забыл, как выглядит мое собственное лицо. Он сел напротив меня, а я подумал, что вот уже год, как я не смотрелся в зеркало.
Через некоторое время открылась та дверь, в которую вошел я, и его позвали. Я остался ждать, решив, что произошедшее — не плохо придуманная шутка, а лишь плод моего больного воображения. Потому что в те дни меня все время посещали какие-то видения: вот я возвращаюсь домой, все меня встречают, потом вдруг исчезают, а я оказываюсь на корабле в своей каюте; все это были утешительные, похожие на сон сказки. Не успел я подумать, что этот человек тоже был из моих сказок, только воплотившихся наяву, как дверь открылась, и меня позвали.
Паша стоял поодаль от человека, похожего на меня. Он велел мне поцеловать край одежды этого человека, и, когда я выполнил приказ, спросил, как у меня дела; я начал было рассказывать о тяжелой жизни в тюрьме, о том, что хочу вернуться на родину, но он и слушать не стал. Паша напомнил, что я говорил ему, что разбираюсь в науке, в астрономии, в инженерном деле, а понимаю ли я что-нибудь в фейерверках, знаком ли с порохом? Я сразу сказал, что знаком, но, встретившись взглядом с двойником, заподозрил, что мне готовят ловушку.
Паша говорил, что свадьба готовится небывалая, что будет фейерверк, который превзойдет те, что устраивались раньше. Похожий на меня человек, которого Паша называл просто «Ходжа»[17], готовил фейерверк, устроенный по случаю рождения падишаха; Ходжа немного разбирается в этом деле, тогда он работал с пиротехником-мальтийцем, ныне покойным; Паша решил, что я смогу быть ему полезным. Мы, оказывается, будем дополнять друг друга! Если мы устроим хорошее представление, Паша нас порадует. Я решил, что самое время сказать о моем желании вернуться на родину, но Паша спросил, имел ли я с тех пор, как попал в Стамбул, отношения с женщинами, и, услышав мой ответ, сказал, что свобода без женщин не имеет смысла. Он говорил те же слова, что говорили стражники; видимо, я очень глупо выглядел, потому что он рассмеялся. Повернувшись к Ходже, он сказал, что ответственность — на нем. Мы вышли.
Пока мы шли в дом моего двойника, я думал о том, что совершенно ничему не могу его научить. Но и он знал немногим больше меня. Мы думали одинаково: главное — получить хорошую камфарную смесь. Для этого нам надо было, тщательно взвешивая, готовить смеси и ночью поджигать их под крепостной стеной. Пока нанятые нами люди под восхищенными взглядами окрестных детей поджигали изготовленные ракеты, мы сидели во мраке под деревьями, с любопытством и волнением ожидая результата, так же мы поступали и на дневных испытаниях наших необыкновенных ракет. После этих опытов, иногда при свете луны, иногда в кромешной тьме, я старался записать увиденное в маленькую тетрадь. Ночью мы возвращались в дом Ходжи, выходящий окнами на Золотой Рог, и, перед тем как разойтись, подробно обсуждали результаты.
Дом у него был маленький, мрачный и неуютный. Вход с кривой улочки, по которой откуда-то текла грязная вода, превращая землю в раскисшую глину. В доме почти не было вещей, но всякий раз, как я в него входил, он казался мне тесным, и меня охватывала странная тоска. Возможно, это чувство вселял в меня человек, который желал, чтобы я называл его Ходжа, так как ему не нравилось имя, доставшееся ему от деда; он наблюдал за мной, словно хотел чему-то научиться у меня, но не знал, чему именно. Я никак не мог привыкнуть сидеть на тахте, которую он поставил у стены, и, когда мы обсуждали наши опыты, я стоял, а иногда нервно расхаживал по комнате. Думаю, Ходже это нравилось — он сидел и, таким образом, мог сколько угодно наблюдать за мной при тусклом свете лампы.
Чувствуя на себе его взгляд, я испытывал беспокойство, оттого что он вроде бы не замечал сходства между нами. Или же он отметил его, но не подавал вида. Он словно играл со мной: ставил на мне маленький опыт и делал какие-то выводы. Потому что первые дни он смотрел именно так: будто что-то изучает, а изучив, испытывает еще больший интерес. Однако он словно боялся сделать еще шаг, чтобы углубить свое знание, и это наводило на меня уныние. Его робость вселяла в меня смелость, но не уменьшала беспокойства. Он хотел незаметно втянуть меня в спор: один раз — когда мы обсуждали опыты, другой — когда он спросил, почему я до сих пор не стал мусульманином; но я угадал его намерение и отвечал уклончиво. Он почувствовал мою осторожность, и я, поняв, что он презирает меня, разозлился. В те дни общим между нами было только то, что мы оба презирали друг друга. Я сдерживался, потому что думал, что если мы устроим удачное представление, без происшествий, мне, может быть, разрешат вернуться на родину.
Однажды ночью, когда наша ракета взлетела особенно высоко, Ходжа, взволнованный удачей, сказал, что когда-нибудь он сделает ракету, которая долетит до Луны; надо только найти нужный состав пороха и отлить снаряд, который бы мы начинили этим порохом. Я попытался объяснить, что Луна очень далеко, но он оборвал меня, сказав, что знает это, но разве Луна — не самая близкая к Земле планета? Я согласился с ним, однако он не успокоился, напротив, разволновался еще сильнее.