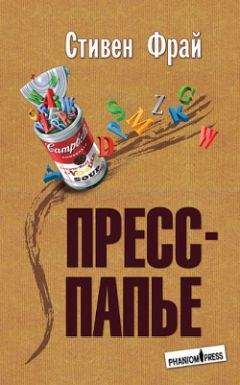— Паричок мой, пожалуйста… отметьте, — вежливо сказал Илья Ильич.
Один из парикмахеров поставил птичку в списке, взял парик и, метко прицелясь, попал точно в корзину.
Илья Ильич, пошатываясь, поплелся вниз. Балет, видимо, кончился, так как со сцены валили уставшие танцоры. Илья Ильич тоже устал, так смертельно устал, как этого с ним не было никогда в жизни.
Домой он явился позже обычного. Осторожно отпирая дверь и крадясь на цыпочках, он старался не производить звуков, чтобы не разбудить внука и дочь.
На кухне ему была оставлена, как всегда, застывшая картошка на сковороде, котлеты из домовой кухни и малиновое желе. На веревке гирляндой висели влажные рубашонки, чулочки, штанишки, на крайних красовалась дыра. Илья Ильич сам покупал эти штаны на прошлой неделе в детском универмаге, их стоимость была равна его трехдневному заработку, поэтому он потрогал края дыры и вздохнул.
Жена Ильи Ильича умерла десять лет назад от рака легких. Она никогда в жизни не курила. На попечении Ильи Ильича осталась семнадцатилетняя дочь Люба.
Вечерами Илья Ильич бывал в театре, а днем почти не видел дочку, потому что она работала на трикотажной фабрике. Она бегала на танцы в парк, в Дом офицеров, знакомилась с курсантами, искала себе мужа, но не нашла, а лишь забеременела и родила мальчика. Так стало их трое.
Крышка, покрывавшая сковороду, с грохотом полетела на пол. Почему всякий раз, когда ты вот так тихо хочешь повернуться на кухне, обязательно что-нибудь с грохотом летит? Поднимая крышку, Илья Ильич свалил нож. От досады он махнул рукой и принялся есть картошку, не разогревая. У него вздрагивал подбородок, вилка мелко постукивала о сковороду, он не чувствовал ни вкуса, ни запаха, лишь машинально жевал, проглатывал и думал.
Жену тогда положили в онкологический институт, шестнадцатая палата, первая койка слева. Он приходил, приносил мед, апельсины, садился на белый металлический стул. Жена беспокоилась: «Ни к чему не прикасайся!» Он посмеивался, а она упрямо твердила, что рак заразен. Наперекор врачам почему-то все, абсолютно все больные в этом огромном здании считали, что рак заразен.
Вот они с женой беседовали об операции, метастазах, стадиях, сроках, по-деловому, серьезно беседовали, потом он приходит, а ему говорят, что тело жены в мертвецкой. И тоже по-деловому, понятно объяснили, как забрать, какие нужны формальности, подсказали насчет машины.
Долго потом, просыпаясь по утрам, ему приходилось внушать себе: «Надо жить ради Любочки», — это помогло, он стал позволять себе кружку пива, а все остальное отдавал ей. Потому что немыслимо сколько нужно нынче молодой женщине, чтобы быть привлекательной.
В годы юности Ильи Ильича девушки бегали в домотканых сарафанах — и нравились. Теперь нужны чулки за четыре пятьдесят, которые цепляются за все, что ни попади, туфли за тридцать, у которых через неделю ломается каблук — и вот слезы, и вот горе. Раньше заплетали косу, и было очень красиво. Теперь — прически, лондатоны, «гаммы», лаки, перекиси… Девчонке с трикотажной фабрики как найти мужа без всего этого?
Когда— то они с покойной женой мечтали, что из Любы выйдет прима-балерина. Но выяснилось, что у нее, как и у матери, нет никакого слуха, чувства ритма, вообще никаких особых способностей.
Выдающиеся способности — но это же ведь у редких людей! Статистически мир складывается из просто людей, не из премьеров, а из большой массы кордебалета. Миманса.
Когда жену называли еще «ходячей больной», она обычно выходила к Илье Ильичу в коридор, где женщины вязали, играли в подкидного да обсуждали, кому и сколько жить. Одна, игравшая в карты, сказала: «Мне, девки, недельки три еще — и до свидания». Действительно, через три недельки — померла. «Ну, надо же, — подумал Илья Ильич, — так просто сказала, ходя с восьмерок: „Мне, девки, недельки три еще — и до свидания“.
Он обнаружил, что давно сидит, подперев голову, над пустой сковородкой.
Чтобы вскипятить чай — для этого он слишком устал, да и не хотелось ему ничего. Тихо прошаркал в комнату — кровать была приготовлена, одеяло отвернуто аккуратным уголком. Вот в чем нельзя было упрекнуть дочь — в неряшливости. Она всегда заботилась, чтобы в квартире было чисто и уютно. Не роскошно жили, но не хуже, чем люди. У них был и радиоприемник «Москвич», старенький, но берет отлично; и телевизор «Рекорд», приобрели в рассрочку; картина «Рожь» Шишкина; стулья недавно сменили; повсюду вышитые думочки; тюль на окнах.
По привычке Илья Ильич проверил внука — тот, конечно, лежал ничком поверх одеяла, раскидав руки и ноги, как парашютист в свободном полете (недавно была такая картина в «Работнице»).
Наведя порядок, старик разделся в темноте и лег в холодную постель, но едва он закрыл глаза, как почувствовал такой удар, что чуть не вылетел с постели. Он задохнулся от боли в ребре, посыпались облупленные бокалы из папье-маше, а ведущий закричал: «Как твоя фамилия?»
Дивясь такой чертовщине, Илья Ильич пощупал ребра: в одном месте при нажиме чуть-чуть болело, но — не стоящий внимания пустяк. Закрыл опять глаза, пытался принять удобную позу, но едва начинал засыпать, как на него налетал премьер Борзых, и под конец он уже не знал, куда деваться, где ему стать, как на всех угодить: если он подбирал бокалы, на него вопили, если не трогал — еще больше вопили: дескать, специально рассыпал. Кругом он был виноват, кругом виноват.
Он перевернулся на другой бок, но оказался в пугающе длинной очереди, она почти не двигалась, потому что разные принцы с накрашенными лицами подавали и подавали через головы рубли, а очередь не протестовала, лишь задние нажимали и нажимали друг на друга; это было единственное, что умела очередь: давиться, протягивая руки, которых буфетчица не хотела замечать…
От такого кошмара у Ильи Ильича выступила испарина на голове. Он пересиливал себя, вставал и ходил по комнате, засовывал под одеяло безмятежно спящего своего парашютиста, ложился, но несчастья опять преследовали его: ему запрещалось иметь личный ящичек как противопоставление себя коллективу; затем он отдавался под следствие за хищение парика; Платонов в оркестре делал немыслимую киксу. И все это было так ужасно, просто конец света.
Придя на работу, Илья Ильич обнаружил театр на месте, целый и невредимый. Но сон все же оказался в руку.
На доске приказов, там, где висят расписания репетиций и объявления о занятиях политкружков, был приколот кнопкой лист, один из параграфов которого касался лично Ильи Ильича. За вчерашнее халатное отношение к своим обязанностям ему (фамилия, имя, отчество прописными буквами) объявлялся строгий выговор.
Илья Ильич оторопел и дважды перечитал бумажку.
— Вот так-то у нас, — сказала невесть как очутившаяся рядом Марья Поликарповна Шпак. — Как сами, так делают что хотят, а порядочному человеку — выговор.
— Право, я сам очень удивлен… — сказал Илья Ильич дрожащим от обиды голосом.
— Чему удивляться, милый, чему удивляться? В этой жизни я перестала удивляться. Ждешь беду отсюда, ан из-за угла тебя мешком. Но я бы на вашем месте, так не оставила, я бы уж им показала.
— Да, я пойду и объясню, — сказал Илья Ильич. — Как же это делается? Не разобравшись… Они не имеют права!
— Иметь-то имеют, — сказала Марья Поликарповна. — Но неприятно. Я вам сочувствую.
— Я стоял во второй кулисе, — сказал Илья Ильич. — А принц уходит в пятую. И вот…
— Да, да, — сказала Марья Поликарповна. — Вы пойдите и расскажите, без крика, спокойненько. Правда, у вас ничего не получится, но вы почувствуете моральное удовлетворение.
Начальник цеха миманса приспособил себе под кабинет крохотную кладовку на пятом этаже, у входа на чердак. Он был там, сидел, как паук в своем закутке, составляя ведомость на зарплату.
Фамилия его была забавная — Чижик. Чем-то он соответствовал фамилии, потому что вечно летал по театру, кричал, там помогал, там мешал, многоцелевой и суматошный, и порядок в мимансе достигался ценой великой суеты с криком, бранью, о которой, впрочем, Чижик моментально забывал. Возможно, только такой человек и мог справиться с анархичной оравой всех этих студентов и лоботрясов, и одному богу ведомо, как он все-таки ухитрялся вовремя выпихивать их на сцену.
Безгранично почитая дирекцию, ловя на лету каждое указание, сгибаясь, подхалимничая и юля, Чижик, однако, с теми, кто был ему подчинен, превращался в льва рыкающего.
— Почему мне, не разобравшись, вынесли выговор? — волнуясь, но держа себя в руках, спросил Илья Ильич. — Ведь я всегда стою во второй кулисе. Борзых, вместо того чтобы уходить в пятую…
— Какое мне дело? — закричал Чижик, вдруг привычно рассвирепев, так как имел дело с подчиненным. — Ведущий потребовал докладную, я подал. Вас много, я один. Так каждый придет, наговорит, а я должен верить?