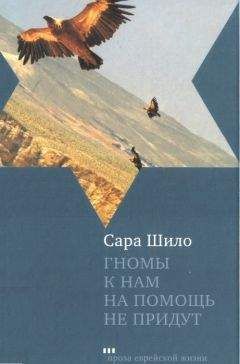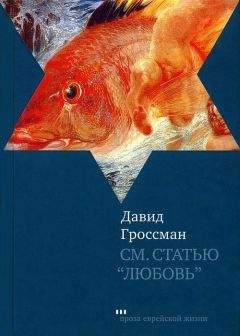Масуд, бывало, утром встанет — и уборку мне делать помогает. Я сначала кастрюли на плиту поставлю, а потом мы с ним дверь на ключ запрем, чтобы никто, не дай Бог, не увидел, как он уборкой занимается — потому как для мужика это позор страшный, если кто его со шваброй и тряпкой увидит, — и глядь, часам к десяти с уборкой уже и закончили. Потом его мать к нам приходит — с ребенком посидеть, пока я гулять буду. Ну а он тем временем хумус для фалафеля делает. Ему-то ведь это в сущие гроши обходилось, буквально в гроши. А деньги в кассу так и сыпались.
Куда ни приду, люди сразу работать перестают, шутят со мной, про беды свои забывают. Мечтать начинают, чтобы у них тоже все, как у меня, было. А что? Разве это плохо? Вот, например, когда я перед девчатами своими вещицами хвасталась. Да им же от этого только лучше было. Я им, как говорится, закиснуть не давала. Как покажу им какую-нибудь новую вещицу, которую из города привезла, — так они тоже у Бога просить начинают, чтобы он им такую же дал. И глядишь — через месяц, через полгода, ну, самое большее, через год, у них тоже что-нибудь такое появляется. А они и рады. Да и мужики наши опять же. Как прослышат, что Масуд мне что-то купил, — тоже подкапливать начинают. Чтобы женам своим тоже что-нибудь этакое подарить.
Но не стало моего Масуда — и не стало у меня больше денег. Он ведь у меня на черный день никогда не откладывал, все мне отдавал. А я… Да что там греха таить… Я ведь денег никогда не считала, все до последнего спускала. Но вот ушел мой Масуд — и посмотрите, что со мной стало. «Ну, пожалуйста, ну, прошу вас, сделайте такую милость, возьмите меня на работу в ясли! Хоть на подмену!» А полгода в яслях проработала — и на тебе, двойню родила. А как после родов вернулась, тут как раз Хани уволилась и меня вместо нее на постоянную взяли, в старшую группу. С Ализой Фадида мы там работаем. Восемнадцать детей у нас в группе с ней. Самый младшенький — Ави; ему год и два месяца. А самая большая — Мири; ей два года и семь.
Утром, в полседьмого, я бегу в ясли, а в полпятого — ползу домой. И вот буквально ни одного дня не проходит, чтобы кто-нибудь у нас на работе не напомнил мне о тех временах, когда я еще королевой была. Всю ихнюю зависть, которая у них ко мне накопилась и которую они все эти годы в сердце своем таили, всю эту зависть они мне теперь, как ссуду, возвращают. Да еще с процентами. Причем не сразу — а порциями такими. И когда они этот свой долг выплачивать закончат, не ведаю. На прошлой неделе даже подумала: «Еще один раз кто-нибудь что-нибудь такое скажет, я в них халатом ка-а-к запущу — и домой убегу!»
Какой же это был день? Понедельник? Вторник? Нет, не вторник. Может, четверг? Да какая разница? Что в них, в этих днях-то для меня такого особенного, чтобы мне их еще и по именам помнить? Все они лежат у меня на плечах, как гора, и поперемешались друг с дружкой, как белье в стиральной машине. Вроде бы это рукав, а вроде бы и штанина. А может, и полотенце. А может, и простыня. Нету у меня больше ни одного денька, чтобы я его с утра до вечера запомнила. И нету у меня теперь ни одного денька, чтобы сверкал он и выделялся изо всех других. Чтобы мне захотелось его не в машинке постирать, а на руках. Чтобы его другое белье не покрасило.
В общем, какая разница, какой это был день? Помню только, что это случилось после обеда. Мы как раз детей пеленать закончили, по кроваткам их разложили и сели чаю попить. И тут вдруг Рики из кухни как выскочит — все руки в мыльной пене — да как начнет кудахтать:
— Эй, Сильви, поди-ка сюда. К нам тут сейчас Иегуда придет. Ну, этот, из горсовета, из отдела техобслуживания. С минуты на минуту здесь будет. Это вообще-то я его Дворе позвать велела. Вроде как чтобы он нам тут канализацию проверил. На самом-то деле я хочу, чтоб он нам над песочницей навес поставил. Дай-ка мне вот этот халат. О! Как раз то, что нужно. Стало быть, так. Возьмешь на руки Шломи и выйдешь с ним к Иегуде навстречу. Я тебе уже говорила, помнишь? В общем, ты должна его уговорить, чтобы он нам над песочницей зонтик построил. Ну, как они обычно в детских садах делают. Только встаньте с ним так, чтобы он в мое окно не глядел, поняла? А вы, девчонки, надушите-ка ее. Только быстро, а то он уже сейчас придет. Да что это вы сонные-то какие, а? Можно подумать, это не вы детей, а они вас спать уложили. Да! И подрумяньте-ка ее немножко. Еще чуть-чуть. А ты, Сильви, давай-ка волосы распусти. Мы, девчонки, сегодня гуляем. Все, чем нас Бог наградил, — все сегодня напоказ выставим. Нет, другой ребенок не подойдет, только Шломи. Он ведь сын его сестры. Сыну своей родной сестры он же не откажет, верно? Ну давайте, давайте, ведите его уже сюда. Он, наверное, еще и уснуть-то толком не успел. Сла-а-денький ты мой! Ну-ка попей немножко чайку. Знаешь, кто к нам сейчас придет? Твой родной дядя придет, дядя Иегуда. Хочешь поздороваться с дядей Иегудой? Подожди-ка, Сильви, не выходи пока. Пусть он чуток поближе подойдет. Ну? Не забыла еще, что делать? Сделай вид, что ребенку хочется в песочек поиграть. Все, давай. Иди.
Сильви взяла Шломи на руки и вышла, а Ализа с Леваной прилипли к окну возле плиты и стали подсматривать. Там у нас за окном куст такой растет, с желтыми цветочками, и за этим кустом их совсем не видно. Ну а я села возле кухонной двери — спиной к ним — и думаю: ведь раньше-то, бывало, на такие поручения Рики всегда посылала меня… Приду к ним, помнится, вся из себя разряженная — и выбиваю для яслей все, что попросят. А Рики приговаривает: «Да на свет еще, Симона, такой мужик не родился, чтобы он тебе в чем-нибудь да отказал! И вообще, — говорит, — девки, вам всем учиться у нее надо. В смысле: как с мужиками управляться. От нее вон никогда не услышишь: ой, да ведь он же меня убьет!»
В общем, не стала я вместе с ними в тот день в окно смотреть. Зачем? Что я там увижу? Разве что жизнь мою, на две половинки разрубленную.
Левана и Ализа говорили вполголоса, чтобы Иегуда их не услышал, но Рики трещала не переставая. Сорока настоящая, да и только.
— Смотрите-ка, — говорит, — смотрите, как я ее научила! Видите, как она хихикает? Погодите-погодите, это только начало. Как говорится, рюмка коньяка для аппетита. Чтобы у него голова немножко кругом пошла. Я ей все-превсе рассказала, что делать надо, во всех подробностях. Вот, смотрите, сейчас она ему ребенка на руки передаст, а сама будет босоножку застегивать. Ну, что я вам говорила? Видите? Она его уже за руку держит, чтобы не упасть. А он-то, он-то… Глазами на нее так и зыркает, так и зыркает. Гляди-ка, Ализа, гляди, как она с ним в кошки-мышки играет. То что-нибудь спрячет, то что-нибудь покажет. Не подает ему, как говорится, все порции на одном подносе. Ой, глядите! Глядите, как она голову откинула. Это чтобы он ее шею получше разглядел, понимаете? А сейчас вон, видите? Волосы за ухо заправляет. Смотрите-ка, смотрите, как его глаза за ней следят. Куда она им прикажет, туда и смотрят. Видите, как он на ее сережку вылупился? Нет, вы только на нее посмотрите! Она ребенку руку гладит. Это чтобы Иегуду — ненароком так — коготками зацепить. Чуть-чуть пощекотать и чуть-чуть царапнуть. Чтобы он и сладость ее почувствовал и чтобы ему одновременно немножко больно было. Ой, смотрите, они уже прям как семейная пара какая! Ну фу-ты ну-ты! Муж, жена и ребенок. Видишь, Левана, как он к ней близко стоит? Еще бы. Отойди он хоть на полметра — ее запах ощущать перестанет, только пот свой нюхать будет. А сейчас, видите, она вроде как у халата вырез поправляет. Это она ему так грудь свою показывает. Чтобы понял, что у нее там не пусто. А сейчас, глядите-ка, глядите, словно жалюзи на глаза опустила. Чтобы, когда она их снова подымет, он на цвет ее глаз внимание обратил. А теперь он ей какую-то историю рассказывает, а она, смотрите-ка, руку на сердце положила — и смеется, смеется… Прям на каждое его слово. Он ведь, девки, смерть как рассказы рассказывать любит. Ему ведь даже на самом-то деле и женщина целая не нужна — одних ее ушей за глаза хватит. Ну ладно, будет уже, будет. Пора и про песочницу заговорить. Только бы она не забыла, что делать надо. О! Видите, взяла у него ребенка и вся из себя такая грустная-грустная стала, будто сейчас заплачет. Я ей велела сказать ребенку, что, мол, не могу я тебе, Шломи, сегодня разрешить в песочке играть, прямо на палящем солнце. Вот когда нам горсовет над песочницей навес построит, тогда сможешь играть хоть целый день. Ну, девчата, теперь нашему Иегуде больше отступать некуда. Теперь он просто обязан Сильви пообещать, что зонтик поставит. Чтобы она опять повеселела. Ведь когда женщина грустит, для мужика это все равно как войну проиграть. Вон, смотрите, он аж весь вспотел. Видите, как ворот рубашки поправляет? Он у него прямо к загривку приклеился. Ждет, пока она опять улыбнется. Господи, да куда же это она так торопится-то, а? Подождать, что ли, чуток не могла? Ну, все! Унесли у него тарелку, унесли… Слишком быстро унесли. Прямо во время еды. Видите, как он ее глазами ищет? И решить-то толком не успел, что делать, а тарелку уже раз — и унесли. Видите? Он теперь ни про какой навес и говорить не хочет. Он у нее, можно сказать, закипел почти, а она его взяла да и с огня сняла. Нет, девчата, ну вы представляете? Он уж и про канализацию-то нашу не помнит. Совсем позабыл, зачем пришел. В общем, не видать нам теперь этого зонтика как своих ушей, не видать. Да-а, девчата, это вам не Симона. Вот кабы сейчас к нему она вышла, он бы нам тут не один, а дюжину зонтиков построил. Да-а, ничего не поделаешь. Нету у нас больше такой, как Симона, нету. Только вы, девчата, глаза-то на Сильви особо не пяльте, когда она вернется, не надо. А то она переживать будет. Да и вообще, уже без четверти два. В полтретьего и детки просыпаться начнут. Гномы-то ведь к нам на помощь не придут. И убираться за нас не будут.