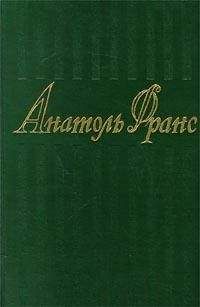Вообще, с правами в жизни у меня складывалось не лучшим образом. До войны я был слишком мал, чтобы думать об этом. Потом пять лет жил как все польские мальчики — в то время только евреи и цыгане находились в худшей ситуации, поскольку у них не было никаких прав. Мне стало лучше лишь после войны, в Польской Народной Республике, но только как поляку «с левым мышлением», скажем так, — потому что все остальные поляки оставались бесправными. Так что я быстро усвоил двойную мораль: одну — лояльную к государству (впрочем, ненавистному), другую — для личного пользования. Спасло меня лишь бегство на Запад, но тогда мне было уже тридцать три года.
Заграничный период, с 1963 до 1996 года, я вспоминаю с наибольшим удовольствием. Раздвоенная мораль сразу же срослась — как мне казалось, навсегда. У меня были свои политические предпочтения, но лишенные ожесточенности, которой судьба наделяет только коренных жителей страны. Даже получив французский паспорт, я оставался иностранцем. Думал, как чувствовал, и чувствовал, как думал, — без противоречий и без всяких помех.
Вторая причина моей популярности в Польше связана с тем, что я писал по-польски. К моменту моего окончательного возвращения, уже три поколения польских школьников учились читать по учебникам, в которых использовались, вместе с другими, и мои тексты. Мне повезло: фамилию «Мрожек» знали даже те, кто никогда не держал в руках моих книг. Мало кто удостаивается такой чести.
Третьей причиной послужило то, что долгие годы пребывания за границей я давал знать о себе очень редко. Прежде всего, потому, что в ПНР я был persona non grata[8], а также потому, что мало был в этом заинтересован. Особенно в те семь лет, когда жил в Мексике. Сама отдаленность не способствовала обмену информацией с Польшей. Ничего удивительного, что мое возвращение вызвало у соотечественников (хотя бы на короткое время) вполне естественный интерес.
Четвертая причина — моя известность на Западе. Известность несколько преувеличенная — но соотечественники гордились ею. А нас, земляков, за границей было не так уж много.
Пятой причиной являлось то, что я оставался на Западе в течение тридцати трех лет и никто не ожидал, что я вернусь, к тому же так внезапно. Ведь с момента решения до самого возвращения прошло всего четыре месяца. А возвращался я из Мексики — из весьма далеких краев.
И наконец, шестая причина: в те времена никто из заметных лиц в Польшу не возвращался.
Так почему же, когда я вернулся, мысль «что я тут, собственно, делаю?» забрезжила у меня голове? Ответить на этот вопрос нелегко. Начнем с простого.
В 1978 году я написал сценарий, реализованный позже в моем фильме «Возвращение». Ни тогда, ни потом мне и в голову не приходило, что я вернусь в Польшу. Однако сценарий оказался пророческим. Это история зрелого мужчины, родившегося в маленьком городке Словении во второй половине XIX века. В те времена, в царствование Франца Иосифа, Словения входила в Австрийскую империю. Действие фильма начинается в 1903 году, и главный герой уже давно живет в Вене. Он довольно известный драматург и пишет по-немецки. Неожиданно он получает телеграмму от сестры, оставшейся в провинции. Из телеграммы следует, что сестра чувствует себя очень плохо. Встревоженный, он ни минуты не колеблясь мчится к сестре, разумеется, на поезде. С ним едет его подруга. Потом возникают разные сложности, но остановлюсь на сцене, в которой герой — по имени Лео — приходит к врачу.
ВРАЧ. Слышал, слышал, к нам пожаловал мастер. Об этом уже говорят в городе. Большая честь. (…)[9] И как вы нас находите после столь долгого отсутствия? Кажется, уже лет десять…
ЛЕО. Пятнадцать.
ВРАЧ. Да, время бежит… Так что же? Успели осмотреться? Какие впечатления?
ЛЕО. Я здесь всего несколько часов.
ВРАЧ. Паршивая дыра, верно?
ЛЕО. Это мой родной город.
Потом Лео заболел. Лежит на софе в гостинице. Врач прослушивает его легкие, затем встает и прячет стетоскоп в чемоданчик с инструментами.
ВРАЧ. Симптомы, словно начинается астма. Но в целом не нахожу никаких отклонений от нормы. У вас никогда не было предрасположенности к эпилепсии?
ЛЕО. Нет.
ВРАЧ. Гм… Это вполне объяснимо. Пока психосоматический эквилибриум не был нарушен, скрытая склонность могла не проявляться. Вы натура чувствительная. Здесь родились и прожили первые двадцать лет — здешний климат и условия были вашей естественной средой. Потом произошла резкая перемена. Первый стресс вы даже не ощутили, поскольку были еще молоды. Теперь снова наступил кризис — кризис реадаптации. Но на этот раз, учитывая ваш возраст…
ЛЕО. Тем более я должен отсюда уехать.
ВРАЧ. Разумеется, но следовало уехать сразу после приезда. Я сам вам это советовал, если помните. Теперь уже слишком поздно.
ЛЕО. Как это слишком поздно?..
ВРАЧ. Вы тяжело отвыкаете и тяжело привыкаете. Ваш организм легче перешел из знакомого в незнакомое, чем из чужого, к которому вы за это время привыкли, снова к знакомому, от которого уже успели отвыкнуть. Теперь вы еще хуже перенесете переход от частичной реадаптации в возобновленную чуждость. Очередная перемена может спровоцировать полную дезориентацию системы.
ЛЕО. Значит, я должен остаться тут навсегда?
ВРАЧ. Я этого не говорил. Но, наверно, нужно подождать, пока минует первая стадия нарушения функций. Поэтому я не советовал бы вам спешить с отъездом. Тем более, что…
ЛЕО. Тем более что?..
ВРАЧ. Тем более, что есть еще один момент, который меня беспокоит.
ЛЕО. А именно?
ВРАЧ. Окончательный диагноз требует дополнительных исследований.
Ровно через восемнадцать лет, вернувшись в Краков «навсегда», я понял, насколько пророческими были эти слова. Понял также, что чем дольше живешь на чужбине, тем труднее привыкать к родине. Но не только это усложняло мне жизнь в Кракове и временами делало ее невыносимой.
Здесь, в шестьдесят шесть лет, я наконец понял, что жизнь движется по прямой лишь до определенного момента. Потом линия начинает слегка закругляться, и в конце концов круг замыкается. Я достиг возраста, когда эта перемена уже совершилась. Когда уже готов пренебречь всем, что когда-то привлекало новизной, — всем, что требовало усилий. Продолжение превращалось в пародию, разыгранную в старых декорациях моего психического состояния.
Мания «навязчивых призраков» являлась разновидностью этого состояния. С трех до двадцати девяти лет я жил в Кракове. Время, проведенное в Боженчине и Поронине, где отец работал начальником почты, почти не в счет. Выходит, я не покидал Краков двадцать шесть лет. За эти годы накопилось много внешне незначительных событий, а потом я уехал очень далеко и тридцать три года провел на разных континентах. Теперь же снова оказался в городе на Висле. В городе, который можно обойти за день медленным шагом, не торопясь. И вот каждый раз, когда я выходил из дому, меня преследовали «навязчивые призраки». Выражалось это в том, что время словно раздваивалось: настоящее и прошлое шагали рядышком. Например, прохожу мимо Марьяцкого костела и вижу: навстречу идет молодой человек. Мы приближаемся друг к другу, и вдруг я догадываюсь, что этот молодой человек — я сам. Нас разделяет только разница в возрасте — пятьдесят лет. Молодой человек исчезает, прежде чем я успеваю обратиться к нему.
Сначала «навязчивые призраки» встречались по нескольку раз в день. Потом реже и реже. И наконец исчезли совсем.
Замеченные мной изменения касались, главным образом, внешних сторон жизни. Краковяне стали иначе одеваться, питаться, иными стали квартиры в новых районах Кракова. Но самое главное — это была уже не «Польская Народная Республика», а просто Польша. Без сомнения, перемены намечались к лучшему. Но что-то сохранилось — например, краковский акцент, который я услышал, едва сам научившись говорить. Или прежнее высокомерие по отношению к приезжим из других районов Польши, то есть склонность считать себя лучше других. Та же провинциальная обособленность, те же «венки»[10] летом и те же балы зимой. В прошлом, будучи частицей Кракова, я в этом охотно участвовал. Теперь, после того как я объехал полмира, мне казалось это смешным.
Но проблема заключалась не в самом возвращении. На чужбине я мог говорить о Польше все, что считал нужным. Я был там один — остальные говорили на другом языке. Вернувшись, я оказался перед выбором: или молчать, или разговаривать с соотечественниками, взвешивая слова, потому что нас тут тридцать шесть миллионов и каждый поляк может придерживаться другого мнения. За границей все в окружении поляка-эмигранта, как правило, безмерно обожают Польшу, и в том же духе он старается воспитывать своих детей. Но это лишь видимость. Каждый думает по-своему, и свои мысли не открывает (или не умеет открыть) никому. Даже самому себе. Это наивно, поскольку у иностранцев голова занята другим, и они удивились бы, узнав, что поляки так любят свою страну. Типично польская мания — уверенность в том, что весь мир сгорает от интереса к нам.