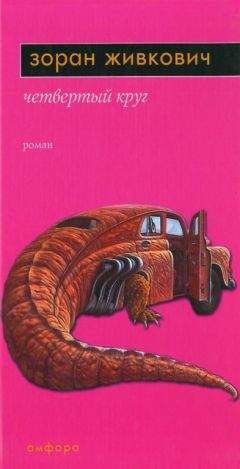Затем приходит время дождей, фрески не схватываются со штукатуркой — и это другой человек! Добрый, как ангел. Ничего меня не заставляет делать. Все идет потихоньку. Он и мою работу делает. Видит, я состарился, так иногда даже и за мной ухаживает. Я ему говорю, чтоб не делал этого, когда нас другие видят. Чтоб не позорился. А он смеется: не считает это зазорным. Тогда мы подолгу разговариваем. Если хотите знать, он рассказывает так же чудесно, как и рисует. Просто заслушаешься. Правда, я не все понимаю. А вот что понимаю, так это разглядыванье людей. Он любит встать в стороне и смотреть. В толпе, на ярмарке. Подолгу, целыми днями. Смотрит на людей, скот, шатры. На поля и холмы вокруг. Порой что-то рисует углем, но чаще — запоминает. А потом я узнаю на фресках крестьян. Иисус — парень, который продавал корову, прости, Боже, или фокусник, что глотает огонь перед своим шатром. Святые у него — обычно пастухи да конюхи, Господи, спаси. Только Мария не меняется, но и она — крестьянка; сейчас уже, должно быть, беззубая и морщинистая, но на стенах точно такая же, как тогда. И на скольких стенах! Об этом никто не знает, поэтому никто и не возмущается. Если б игумены проведали, нас бы в самое пекло прогнали. Господь знает, Он все знает, однако это Его не заботит. А может, как раз сейчас его за это и наказывает. Смилуйся над нами небо, коли так.
Есть и кое-что, что у меня в голове не укладывается. Когда приходит осень, начинает моросить дождь и никак не может перестать, его обуревает что-то вроде тоски, но странной; он падает духом, начинает грустить, рассказывает о каких-то злых духах, маленьких, зеленых, которые поселяются у него в голове, мучают и истязают изнутри, мутят ему мозги. Понуждают его на что-то, — на что не знаю, он объяснить не умеет, — а он всеми своими слабыми силами сопротивляется демонам, будь они прокляты. И во сне не дают покоя ему. Я смотрю на него ночью, как он, весь в поту, вертится во сне, мечется по постели, а потом вдруг с криком подскакивает, таращится на меня испуганно, не узнаёт, руками машет, гонит меня от себя, будто и я сам, Боже, сохрани, одно из этих привидений. Но это проходит. Изменится погода, выпадет снег, и демоны разбегаются. Видно, не любят они белого. Не хотят следов оставлять. Это не скроешь от крестьян, у которых мы ночуем, видят они всё и слышат, а потом расспрашивают меня наедине, очень осторожно, чтоб не погрешить на Мастера, но все ж боятся, как бы им на дом проклятье не пало, как бы нечистый на их очаг порчу не навел. А я им говорю: ничего страшного, у Мастера лихорадка, вот он и бредит во сне, как у детей бывает, может, воздух здесь для него вредный, что ли, или вода. Они соглашаются, не спорят, однако вижу — легче им становится, когда мы уходим. Зовут попа окурить дом, очистить.
Через попов рассказы о демонах Мастера дошли и до монастырей, и игумены стали на разговор нас звать. А Мастер умеет вести беседу, тут ему равных нет, все в нашу пользу поворачивал, так что игумены еще и извинялись, однако все-таки присылали монахов последить за нами, пока мы спим, — не появятся ли демоны. Но нет их, пока Мастер рисует, тогда его другая лихорадка трясет и спит он как убитый, прости, Господи. Демоны приходят, когда он сидит без дела, осенью.
Вот так было до этого лета. А сейчас впервые раньше времени пришли, отродье вражье, чтоб у них семя засохло. Не дают ему покоя, но не так, как прежде, по-иному. Не бредит он по ночам, не просыпается в жару, но молчит все время, не разговаривает ни с кем, даже мне ни слова не промолвит. Стены его зовут, погода, того и гляди, испортится, а он за дело не берется. Однако он работает, не бездельничает. Велел мне поставить подмостья, а вокруг полотно натянуть, чтобы снизу никто не видел, что он творит. Я его спрашиваю: «Зачем? Ведь никогда так раньше не делали». А в ответ только: «Молчи и делай, как я говорю». Ну, я все устроил, а он спрятался там, так что никто не подглядит, даже я, и вниз слезает только за красками. А краски-то чудные, никогда раньше такие не использовал, яркие: синяя, розовая, желтая.
Жутко мне хотелось посмотреть, что рисует он, да и монахи пристали: хотели узнать от меня, коли от него никак. Вообще-то мне нет дела до долгополых, но если нечистый пришел к Мастеру, чтобы получить свое, — а ведь рано или поздно должен прийти за расчетом, — то нет для меня другого спасения, как у монахов, может, тогда и выкручусь. Но не легко случай найти посмотреть. Он и ест наверху, и спит, вообще не спускается. А сон у него чуткий, каждый шорох слышит. Но ведь человек он в конце концов, ему облегчаться нужно, хотя этот может и терпеть, уж я его знаю, может и не есть, лишь бы не сходить вниз. И все же спустился сегодня вечером, думал — никого нет, монахи на молитве, а меня в расчет не берет. И поднялся я…
3. Подсолнухи и десятичные знаки
Блестящая тарелка радиотелескопа бесшумно вращалась в голой степи, словно некий чудовищный подсолнух, безошибочно провожая далекую звездную систему в ее неспешном движении по небосводу — движении, соответствующем постоянному вращению небольшой планеты вокруг своей оси. Скупой растительный мир планеты, точнее, ее далекого экваториального пояса, никогда не знал подсолнуха, так что какому-нибудь местному наблюдателю такое сравнение и в голову не пришло бы; но это уже было неважно, ибо в этом небольшом мире не осталось ни единого представителя расы, создавшей столь сложную систему антенн.
Что произошло с этими искусными строителями. Умерли они, покинули родную планету или, быть может, развились в более сложные существа, полностью потеряв интерес к электронным игрушкам своего детства, — этого программа, управляющая сложным астрономическим комплексом, не знала, да такие вопросы ее, собственно, и не занимали. Она была приспособлена действовать абсолютно самостоятельно, что было не особенно тяжело, поскольку задание являлось достаточно простым.
Телескоп следил за радиосигналами из тройной звездной системы, на которую он был постоянно направлен благодаря удобному расположению этого далекого космического архипелага на небосводе и удачному склонению оси вращения планеты, около южного полюса которой комплекс и располагался. Программа, управляющая системой, не имела понятия, зачем телескоп направлен именно на эту почти невидимую точку в небе, а также почему его создатели избрали именно эту частоту, оставив без внимания все прочие, для приема слабых радиосигналов, непрерывно поступающих в теперь уже пустой мир после одиннадцати с половиной световых лет пути.
Никто ей, программе, не счел нужным объяснить причины, по которым существа, ее создавшие, были уверены, что как раз на этой частоте, а не на какой-либо другой, однажды должен прийти сигнал, совершенно отличный от естественного фона, который пока только и фиксировал телескоп с момента своего пуска в действие. Радиошум был особенно силен именно на этой частоте, поскольку наиболее распространенный элемент космоса также излучал на ней[1], поэтому приемное устройство должно было обладать сверхчувствительностью, чтобы из радиокакофонии вселенной извлечь почти безнадежно заглушённый голос той звездной системы, за которой следил телескоп. Но исчезнувшие строители астрономического комплекса вообще не взялись бы за возведение такой высокотехнологичной пирамиды, если б не были в состоянии обеспечить надлежащую чувствительность приемника.
Однако подобная чувствительность была необходимым, но недостаточным условием этого предприятия. Другим столь же важным свойством комплекса являлась его долговечность. Строители радиотелескопа, возможно, точно не знали, когда поступит ожидаемый сигнал, хотя на сто процентов были уверены, что рано или поздно он придет: иначе зачем единственное устройство такого рода на всей планете, столь самоуверенно направлено именно на определенную точку в небе?
Ожидание могло завершиться довольно быстро, но точно так же могло продлиться века и зоны. В любом случае степень долговечности астрономического комплекса являлась вторым необходимым условием; исчезнувшие технологические волшебники смело приняли вызов, почти противоречащий второму началу термодинамики, одарив чудовищное радиоухо терпением космического масштаба.
В то же время телескоп снабдили матрицей, которая должна была оповестить его о выполнении задания. Все записанные передачи сравнивались с этой матрицей с целью обнаружения ожидаемой правильности сигнала, которой никак не могло быть в хаосе естественного радиофона. Проектировщики программы «прислушивания» к далекой тройной звездной системе — входящей в состав красивейшего созвездия, которое жителям другого, почти столь же удаленного, космического острова упорно напоминало крест — точно знали, чего ожидают, отобрав именно эту матрицу из множества других, точно так же способных отличить шум вселенной от голоса разума.