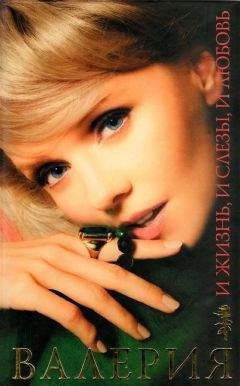Подмастерье или школьник весь день гулял то ли в поле, то ли в лесу, и тогда его отец, сжимая кулаки, орал матери:
- Эй, посмотри-ка на своего сыночка! Пошли! Идем со мной! Я должен кого-то отлупить! Пошли к маменькину сынку!
И, даже пальцем не тронув своего провинившегося сына, они отправлялись к небольшому навесу, где терпеливо ждали единственные дети, которых можно было бить: те играли в карты, в шарики, в курносый-нос, в ущипни-за-брюхо или в проснувшуюся свинку. Родители приносили с собой кувшин вина.
Они ставили его перед ребенком, которого собирались избить. Паренек пил, хохотал, смеялся над физиономиями, и это притягивало народ. Потом мать, к примеру, восклицала:
- Ах, папенькин сынок! Ты сделал то-то и то-то! Каково!
Папенькин сынок быстренько проглатывал вино, а мать била его:
- Вот, папенькин сынок! Вот тебе! Получай! Получай! Получай! Каково!
Но затем свидетели прерывали наказание, вразумляли взрослого и успокаивали ребенка.
Так было в самом начале. Позднее сценарий изменился. Мы стали слишком чувствительными. Теперь тому из родителей, кто хотел избить дежурного ребенка, мешали супруг или супруга, которых возмущала подобная несправедливость:
- Старый пидорас! Старая прошмандовка! За что ты бьешь его? Оставь его в покое! Это же твой мерзкий сынок сделал то-то, и то-то, и то-то! Каково!
И, забыв о дежурном мальчике, они свирепо дрались, точно два кобеля, позарившихся на одно подхвостье. Тогда маленький мальчик, полностью успокоившись, неспешно смаковал свежее вкусное вино из кувшина и начинал с рискованной грацией покачиваться на заду, пока в его мутных, сонных и слегка насмешливых глазах кружились в танце мужчина и женщина, тузившие друг друга.
Чтобы добраться до лесов, лугов и ближних долин к западу от деревни, необходимо пересечь реку с очень широким, но неглубоким руслом. Ее можно перейти вброд практически в любом месте, ступая по большим камням, торчащим из воды. Поэтому моста никогда не строили.
Но по весне и осени (не считая оттепелей в холодный сезон) уровень воды поднимался, причем так быстро и прихотливо, что половодье могло застать вас прямо посреди перехода.
Поэтому мы учредили должность паромщика. Если вы подскальзывались или вас внезапно уносило паводком, этот человек выходил из своего укрытия и, сочувственно наблюдая за вашими мытарствами, горячо подбадривал в голос, чтобы вы продолжали бороться за свою жизнь. Когда же вы наконец добирались до берега, он поздравлял вас, усаживал сушиться у своего костра, угощал вкусным супом, вкусным хлебом, вкусным салом, вкусной виноградной водкой.
И напротив, если вы тонули, он безутешно вздыхал, глядя на вашу агонию, а по завершении драмы отцеплял свою лодку и вылавливал ваше тело багром. За каждый труп, поднятый из воды, паромщик получал от общины вознаграждение.
Когда возникает какая-нибудь мысль, можно, конечно, вытерпеть четыре-пять дней поноса, бессонницы, импотенции, а порой и булимии, но при этом всегда испытываешь унижение. Поэтому рано или поздно мы направлялись к общинному мыслителю.
Этот философ жил в свинарнике из сухих кирпичей, расположенном возле кладбища, на распутье. Он не имел права показываться нам на глаза и выходил только по ночам, пряча лицо и надевая войлочную обувь, чтобы собаки не залаяли. Дверь ему заменяла могильная плита без надписи, и вечером, когда он сдвигал ее перед выходом, она валилась с тяжелым глухим грохотом, который полошил всю деревню, возвещая о приходе мыслителя перепуганным карапузам, старухам и совокуплявшимся компаниям. При этом каждый втягивал голову в плечи - точно курица, если с неба низринется ястреб.
Когда кто-нибудь хотел посоветоваться с общинным мыслителем, он делал это исключительно днем: подходил к пристанищу философа и говорил сквозь кирпичную стену, стараясь как можно лучше изложить терзавшую его мысль. И мыслитель отвечал, качая в своей хижине котелком, выпуская кишечные газы, ломая кость или хрипло напевая обрывок песни - средство не имело значения. С тех пор вопрошавший постоянно вспоминал звук, вызванный его откровенным признанием, и впредь только об этом и думал. Вскоре к нему возвращалось здоровье.
Поскольку никому не хотелось быть мыслителем, это ремесло приберегали для калеки, не способного защищаться. То был незавидный удел, последняя ступенька жизни перед смертью. Однако многие калеки сами добивались этой должности, когда в один прекрасный день узнавали, что в деревню направляется раздельщик калек. Накануне ночью они выходили на улицу и подстерегали гулявшего общинного мыслителя, дабы уничтожить его и занять его место - их единственный шанс выжить. Но калек было много, одного этого убийства оказывалось недостаточно, и они принимались убивать друг друга: поэтому официальным мыслителем становился самый сильный из уродцев. Ведь мы ни разу не видели, чтобы двое калек объединились и совместно занимали пост мыслителя: им попросту не хватило бы еды.
Когда я был маленьким, один мальчик не хотел расти. Он был старше нас, но интересовали его мы, дети. Его не стали отдавать в учение и просто нанимали на фермах. Из двух предложенных работ он выбирал ту, что способен выполнить ребенок, а от другой отказывался: его считали хитрым.
Тем не менее, он всегда находил работу. Этот мнимый ребенок соглашался на то, на что не соглашаются настоящие дети - как за уроки, так и за ласки либо пинки. Иметь такого идиота - большое счастье: он хорошо зарабатывал на жизнь.
Из всех его ремесел мы, дети, предпочитали ремесло снеговика, которым он занимался зимой, когда нечего было делать в поле. Во время уроков он колол дрова, сносил пощечины от женщин, насильно откармливал гусей перед Рождеством. Но с наступлением темноты он приходил и дожидался нас возле школы, на черно-белой улице, где мокрый туман разносил запахи из дымоходов. Он засыпал себя до пояса снегом, словно песком, только стоя. Нам оставалось закрыть верхнюю часть. Мы превращали его в огромную снеговую статую, толщиной в три человека: он божился, что внутри прекрасно дышится, и малыши из любопытства засовывали нос внутрь снеговика. Носы мокли, щеки пылали, ноздри горели, блаженные лица изумленно смеялись, словно увидели что-то небывалое - диковинное!
Потом снеговика разрушали. Старшие мальчики часто прятали камень в снежке, который бросали: простачок их смущал, они боялись стать такими же и швыряли со всей силы, целясь в лицо. Поначалу снег смягчал удары, но затем осыпался, и тогда показывался ярко-красный кусочек лица -красный от крови. Спереди вскоре расплывалось большое алое пятно. Малыши из робости бросали едва слепленные снежки, остальные пинали его под зад, чтобы обрушить снежные глыбы и потом закричать: жопа ну у тебя и жопа смотри какая жопа!
Когда совсем темнело, мы уходили. Мальчик высвобождался полностью, протирал раны снежком и искал под фонарем небольшие подарки, которые дети раскидывали специально для него: ведь мы оставляли всякий раз орехи, свисток, птичье перо, оцепенелую лягушку, драже с еловым вкусом, рогатку, листик, баранью косточку, карандаш, красный плод, букет из цветочков, пробивающих снежный покров перед самой весной. Он возвращался один, с полными руками, из носа текла кровь, взгляд был дерзновенным от счастья. Мы любили его.
Мы показывали старые номера прежних владельцев, выгравированные на фронтонах некоторых домов. Эти произведения искусства насчитывали несколько веков, и о них рассказывали следующую историю.
В былые времена жил ребенок, который каким-то чудом умел произносить слово «нет» с самого рождения. Но, хотя он все понимал, так и не удалось научить его ни одному другому слову.
Он вызывал всеобщее восхищение, когда писал буквы «Н», «Е» и «Т», простые либо украшенные, в том возрасте, когда обычные грудные младенцы едва начинают сосать свои ножки.
Маленьким мальчиком он приводил в восторг мать, которая прикидывалась несчастной лишь для того, чтобы набить себе цену. В душе она радовалась, что ответы ее ребенка были настолько предсказуемыми, и, внешне ее жалея, втайне мы ей завидовали: многим женщинам тоже хотелось иметь карапуза, который не говорил бы ничего лишнего, но они боялись слишком уж сильно об этом мечтать, ведь младенец мог оказаться и девочкой.
Наш мальчик настолько преуспел в своем искусстве, что, став взрослым, разбогател, рисуя буквы «Н», «Е» и «Т» в красивых манускриптах для монастырской братии. Он также высекал их в камне, вырезал на дереве, на заказ выводил инициалы вельмож и деревенских жителей с подходящими именами, каковых в ту пору было несколько. Один хорватский принц даже пригласил его в свой дворец и пожаловал пенсию.
Никто бы не поверил, что этот гравер ведет точно такую же жизнь, как и все остальные люди. На старости он даже умудрялся говорить «нет» столь находчиво, что кумушки и дети считали его святым. Он научил своему искусству нескольких подмастерьев, не оставил никакого потомства и умер молча.