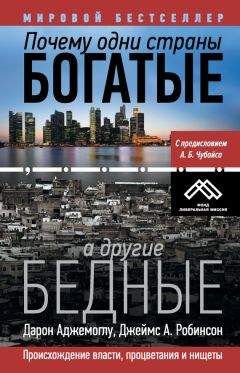До сих пор никак не могу взять в толк: и чего это деревенских невест венчали в красной фате? Я как увидел свою невесту в этой фате, уставился, словно бык на красную тряпку, но об этом потом.
1
Что ни говори, а дорога к браку не легкая. Виноградинка, пока в грозди, должна вобрать в себя все солнце лета, чтобы можно было вкусить ее сладости, а что еще нужно человеку?
Не знаю, каким был мой отец, но до меня у него шесть дочек было, на парня у него все силенок не хватало. Так вот, когда шестая родилась в пятницу, это было накануне пасхи, он со злости запряг волов и поехал пахать. Повыскакивали люди на гумна и огороды, видя такой грех, бабы крестятся, молят бога, чтоб не насылал на них белых туч и не побил посевов. А отец мой пашет и на дудке играет. Есть люди, которые, вместо того чтобы шуметь, буянить, играют. И он был из таких.
С того самого неслыханного отцовского греха не прошло и года. Весна снова засвистела в птичьих крыльях. Белый ветер задул по Фракийской равнине, заиграл волнами в темногривой пшенице. Мой отец собрался в поле. Мать перекрестилась, чтоб день был удачным и работа спорилась, и сказала:
— Ты смотри сегодня пораньше возвращайся. Кажется, начинается, толчки чувствую…
— Начинается, не начинается… — огрызнулся отец. — Если опять девку принесешь, выброшу, чтоб собаки сожрали, орлы чтоб разнесли по своим гнездам…
Мать ничего не ответила, бросилась в сени и разрыдалась. В это утро отец вышел еще до восхода. Решил вспахать не до шестой межи, как всегда, а до седьмой — в честь еще не родившегося ребенка. И думал так: если не хватит у меня сил справиться до полудня, значит, и седьмой ребенок будет девочка, если вспашу — парень родится. Жаворонок трепыхается в небе, золотым орешком падает на землю, предсказывает что-то, кто же понимает птичьи песни? Солнце в зените — у пахарей обед, подвинулось солнце — поднялись и пахари. А отец без обеда, без передышки. Смотрят на него люди и говорят:
— Жена его, наверно, опять девку принесла, так он со злости да срама волов готов загнать…
Поле черное, как в трауре. Земля тяжело дышит горячим дыханием. Белесое марево повисло над пашней. Пискливый голосок позвал: «Папа, папа…», — но за шумом на поле и птичьими песнями кто ж его услышит. Не услышал и мой отец. Это был голосок моей сестренки Василки. Отец из последних сил старается докончить пахоту. Сестренка перебежала поле наискосок и остановилась, запыхавшись. Смотрят они друг на друга, как люди, которым есть что сказать, но один не смеет спросить, а другой не смеет вымолвить. Отец боится, чтоб и в седьмой раз не услышать слово «дочка», а у сестренки новость застряла в горле. Не выдержав взгляда отца, сестренка захныкала. Отец в нетерпении:
— Ну чего плачешь? Собаки за тобой гонятся или ребятишки побили?
— Нет.
— Так чего?
— Ма-ма…
— Что мама? Не умерла же?
— Нет…
— Так чего ж тогда? Говори!
— Мальчика родила!
До этой минуты мой отец никогда не обнимал своих детей, во-первых, потому как всё были девчонки, ну а потом и не принято это у деревенских отцов. Но на этот раз он сам не заметил, как подхватил дочку и до конца поля все кружился с ней. Там опустил ее на землю и впервые в жизни поцеловал. А сестренка смотрит на него испуганно, но с улыбкой. Только тогда ему пришло в голову, что за такую весть подарок бы нужно сделать. Сунул руку в бездонные карманы, но вместо денег только кремень звякнул, и не искры брызнули, а слезы из глаз. Нечего было дать дочери. Погладил ее по лохматой головке и пообещал, что купит ей шелковую косынку на караабалийской ярмарке.
Отец был беден. Все его богатство — пять овец, но одну все же не пожалел, чтобы отметить рождение сына. Мама на сене лежала, отозвалась слабым голосом:
— Надо бы женщин позвать, пусть устроят состязание, чтобы мальчик рос сильный, а которая победит, получит от меня в подарок шелком шитую сорочку и золотой.
Разослали глашатаев. Собрались женщины. Гумно у нас большое, молотили двумя молотилками с волами и одной с лошадью, но для состязаний наше гумно тесновато. С восхода до заката в тот день на гумне мелькали косынки, трещали платья, рвались волосы, женские крики оглашали село, и уже когда закат позолотил ставни и окна, победительницей назвали пастушку Яневицу. Мама поднялась с сена. Никто еще не видел, чтобы роженица встала на третий день. И подарила Яневице свою лучшую сорочку и большой золотой. Пастушка не побоялась выступить в состязаниях, а золотого испугалась: она никогда не держала золота в руках.
— Тетя Ирина, бог даст, твой сын министром станет.
А отец мой от радости наполнил большую флягу темным вином, отнес в корчму и всех угощал:
— Пейте, люди! У меня сын родился!..
С тех пор и стали устраивать состязания женщин в честь родившегося мальчика. Но растут дети, растут и заботы. Пошел ребенок, мать на заре разносит по соседям пирог с медом и орехами, ходит от дома к дому, угощает, чтобы сильным и ловким был ребенок и чтобы солнце поутру не заставало его в постели.
А отец каждый год ставил сына к косяку сарая и, если тот отставал в росте, вытягивал его на веревках, чтоб догнал сверстников. Но из всех радостей самая большая для отца была, когда сын сам вызвался пойти с ним в поле.
Еще больше обрадовался отец, когда сын встал к плугу и положил свою ручонку рядом с его рукой. Тогда он понял, что растет смена, отдал плуг сыну. Волы почувствовали неокрепшую руку, заспешили, но земля отламывалась ровно; не выпустил сын плуга из рук и не повредил лемехом ноги волам, довел борозду до конца. Отец расцеловал сына и обронил скупую мужскую слезу. Распрягли они волов, сели середь борозды, и отец рассказал ему, на каком поле, какая земля когда и чем засевается, где плуг задевает за кочку или камень. После такого урока мальчик уже старается не посрамить отца и род свой…
Для матери же было большой радостью, когда сын вернулся с посиделок с букетиком цветов. Девушка редко дарит парню цветы, но уж если подарит — все равно что дала согласие на помолвку. Парень там же, перед домом девушки, стреляет в воздух, разряжает целую обойму, чтобы собаки залаяли и чтобы все знали, кто подарил ему цветы.
А сколько раз головы трещали из-за этих цветов! Поднимется шум. Повалятся корзины и веретёна. Кто кого бьет, а кто защищает — не понять. Прибегут отцы спасать своих дочерей. И все это происходит на пути к венчанию.
Деревенские истории. Грустные и романтичные. Венчание — вершина в жизни человека, но каждый ли может быть героем этой вершины — речь пойдет дальше!
2
Как-то на масленицу, когда сестренка пошла на площадь, где собиралась молодежь, мама посмотрела ей вслед и в умилении промолвила:
— Милая моя девочка!..
Меня это удивило. Я вскочил, догнал сестренку и пошел следом. Шел я и считал ее косички. А косы у нее были настоящие, до колен, на конце распушенные, на них бант цвета невестинской фаты. Считал я, считал — все шестнадцать у меня получалось. Разозлился я, возвращаюсь домой и говорю: «Мама, зачем ты меня обманываешь, что у сестренки восемнадцать косичек? Десять раз пересчитал, всё шестнадцать выходит». Она улыбнулась виновато и говорит: «Бантом прикрыты две косички, потому ты и ошибся, сынок».
Мне стало неловко, я покраснел, а мама вошла в сестренкину комнату и стала перекладывать приданое. Она перебирает, а приданое, как разворошенный костер — отблески его играют на стенах и нас ослепляют. Да и как не ослеплять, — ни одна девушка не могла ткать цветастые покрывала и ковры лучше сестренки. Аж из балканских сел — приезжали к нам, чтоб взять образец, а мама, вместо того чтобы радоваться, все глаза проплакала. Я не видел более грустных глаз.
На закате солнце запуталось в косматом облаке и своим отблеском позолотило платья девушек. Они пляшут быстро. Вдруг хоровод распался, как нитка бус, разорванная сильной мужской рукой. Молодые парни, сунув в рот пальцы, засвистели так, что перепонки полопались. Женщины и девушки кучками разбежались по улицам и переулкам. А парни, как молодые ослята, выстроились: одна шеренга — парни с одного конца села, другая — с другого конца — и стали плясать. Посбрасывали рубахи, поснимали пояса. Только ноги мелькают. Но вот от каждой шеренги осталось по одному танцору. Тогда фракийское хоро сменилось рученицей с еще более мелким шагом. Одни кричат: «Давай!», и другие кричат: «Давай!», пока побежденный не хлопнул по плечу соперника и не сказал: «Ну все, брат, переплясал меня!»
Тогда парни с той улицы, где живет победитель, достают свои самострелы и стреляют, а мать парня-победителя наутро разносит по соседям каравай, украшенный орлиными перьями и посыпанный солью и перцем, — так положено, раз ее сын победил всех парней в деревне.
Моя сестренка любила такого парня. Ваклю его звали. Он вел мужское хоро, сестра — женское. Пляшут, переглядываются, и словно не музыка меняет движения танцующих, а их взгляды. Ваклю свистнет, присядет, подпрыгнет, взмахнет кнутом, а сестренка замашет платочком, девушки — за ней, и хоро завьется волнообразно, словно ветром заколышет хлеба в поле. Глядишь не наглядишься на такое хоро. Потом девушки идут домой, берут медные ведра и, не меняя нарядов, отправляются к колодцу за ключевой водой.

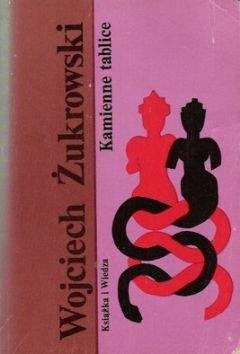


![Ричард Адамс - Обитатели холмов [издание 2011 г.]](https://cdn.my-library.info/books/49785/49785.jpg)