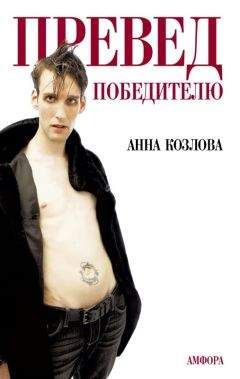— А что может со мной случиться? — донесся голос Салтаны.
Я представлял, с каким лицом, с какой мнимо радушной улыбкой она произносит эту фразу.
— Где Ален? — тупо спросил Сельвин.
Я услышал, как Салтана (очевидно, в гневе) топнула каблуком.
— Я надеялась, у тебя хватит такта никогда не спрашивать меня об этом человеке! — взвизгнула она.
Всю обратную дорогу мы почти не разговаривали. Каждый был поглощен воспоминаниями о необъяснимых событиях в Шенау. Салтана, видимо, сожалела о своем истеричном визге — Сельвин оскорбился. Она все время плакала, уткнувшись в лисью накидку. Вскоре та ссохлась от солевого налета и стала похожа на облезлый собачий хвост. В Берлине она выкинула из окна свой набор солонок. На германской границе плюнула в предложенное шампанское. На подъездах к Варшаве чуть не выбросилась на рельсы.
Через несколько дней после возвращения домой мне пришлось отправиться в Краков к сестре. Она родила сына и приглашала меня на крестины.
Я уныло стоял в костеле с красным (его вид даже напугал меня) племянником на руках. Мне нестерпимо хотелось закурить. Сестра превратилась в какую-то отвратительную клушу. Казалось, родив ребенка, она разучилась разговаривать. Только издавала невнятные звуки над колыбелью. Мне ничего не оставалось, как бродить по кабакам с ее мужем. Мы играли в бильярд и пили почему-то мадеру. Домой возвращались к утру. Сестра, как безмолвная мученица, поджимала губы. Но быстро забывала о наших проступках, услышав очередной вопль. Бросалась в комнату, где лежал ребенок, — совала ему распухшую, пожелтевшую грудь.
— Я с ней уже полгода не спал, — пожаловался мне ее муж (любитель мадеры и бильярда), когда мы стояли на вокзале.
Я с интересом посмотрел на него.
Проклятый поезд никак не мог подъехать.
— Заставь, — посоветовал я.
Поезд медленно подползал к перрону.
— Как я могу ее заставить? — В его интонациях было что-то от Сельвина.
— Неужели ты ее хочешь? — спросил я.
Поезд почему-то опять остановился. Муж сестры тупо смотрел на меня.
— Хочешь туда, где было это красное… — Я не знал, как сказать, все-таки речь шла о его сыне. — У нее там все растянуто, все в крови, в царапинах… — Я повернулся и положил руку ему на плечо. — Хочешь спать с ней под эти вопли? Она тут же вскочит и побежит, вложит ему в рот одну из этих огромных грудей…
— Я все время об этом думаю. — Он с благодарностью пожал мне руку.
— Просто ты женился на одной женщине, — я покосился в сторону стоявшего, как скала, поезда, — а она стала другой… Найди себе хорошую теплую девочку, не рожавшую девочку…
Взвыв, поезд подъехал к перрону. Я кивнул мужу сестры и запрыгнул в вагон.
Я вернулся в Варшаву. На следующий день ко мне пришел Сельвин. Сообщил, что Салтана опять с фон Шницким.
— Она сказала, что очень по тебе скучает, — растерянно передал он. — Она просила отдать тебе записку.
Я взял у него голубой конверт. Конверт нестерпимо благоухал розовой водой. Я ненавидел за это Салтану. Сельвин уныло поплелся к двери. Мне почему-то захотелось остановить его. Я распечатал письмо.
— Подожди, давай прочитаем, — сказал я ему вслед.
Сельвин удивленно обернулся. Я приглашающе указал ему на кресло. С видом клятвопреступника он сел.
— Неужели ты не прочитал, что она пишет? — спросил я.
Сельвин улыбнулся и покачал головой.
— Я бы прочитал.
Я встал посреди комнаты, как можно дальше отвел благоухающую бумагу и начал читать:
— Дорогой мой, — я усмехнулся (Сельвин тупо смотрел в пол), — не сердись на меня, я никогда не перестану любить тебя. Просто в моей жизни наступил момент, когда я вдруг поняла, что все вокруг меня мертво. Как будто сделано из соли, по которой можно щелкнуть пальцем, и она рассыплется. Прости меня…
— Интересно, за что она просит прощения? — спросил я у Сельвина.
Он равнодушно пожал плечами.
— Я была так расстроена, — продолжал я, — подавлена никчемностью человека, которого почти полюбила…
Сельвин почему-то насторожился.
— …он не выдержал испытания солью, он исчез, поглощенный ею…
— Мазох, кажется, пошел ей на пользу, — заметил я, — смотри, какие сентенции: «исчез, поглощенный ею…»!
— Что в нем такого было, в этом придурке?! — горестно воскликнул Сельвин. — Что он мог ей дать, чего не мог я?
— Не надо ничего давать, — посоветовал я, — надо брать.
— Смысл соли непостижим, — декламировал я, — она вечна и в то же время бесполезна, как, впрочем, все, что кажется нам вечным. Дорогой, уподобься соли, не думай, что твое прошлое принадлежит тебе и есть часть тебя. Скинь оковы прошедших дней и переживаний. Дай им выйти из тебя, подобно крупицам соли. Живи вечно в непрестанном очищении от соли выплаканных и невыплаканных слез. Воскресай!
Я отложил письмо. Сельвин скверно ухмыльнулся.
— Дура, боже, какая дура! — сказал он.
Я заметил на своих пальцах кристаллики соли. Облокотился на спинку дивана и почувствовал, как соль щекочет мне спину под одеждой.
— Я пойду. — Сельвин встал и вышел из комнаты.
Я подумал, что слабые люди, подобные ему и Мальчику, растворяются в вечности, как в соли. Но сильные выживают. С усмешкой принимают ее тайны, суть которых есть соль.