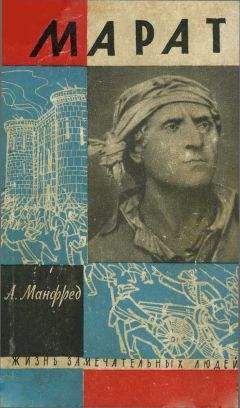— Может быть, — сказала тетя, оставшись в душе при своем мнении.
Как только мы устроились с жильем, я написал письмо Даше. И стал ждать ответа. А ответ не приходил. И я написал новое письмо. Второе, третье, четвертое... Папа говорил, что письма идут пароходом и поэтому надо ждать месяца три-четыре, а мама говорила, что они не доходят, их вскрывают на почте, ищут доллары. А потом, примерно через полгода, вернулось моё первое письмо с припиской, что адресат выбыл в неизвестном направлении. А потом вернулись второе, третье..,десятое.
Я очень переживал. И папа с мамой, как могли, успокаивали меня.
И папа сказал:
— Станешь взрослым, получишь паспорт и съездишь в Краснополье, поищешь Дашу, а пока надо учиться и взрослеть!
И я стал учиться и взрослеть.
Когда я вернулась домой, проводив Даника, мама не спала.
— Тебе плохо? — спросила мама.
— Плохо, — сказала я. — И мне не хочется говорить.
— Ложись, — сказала мама.
И я легла не раздеваясь. И долго смотрела на гвоздь на стене, на котором висела дедушкина картина. И думала, что, наверное, не надо было дарить картину, потому что я на ней слишком красивая, а в жизни я хуже. Даник будет представлять меня такой, как я на картине, а потом увидит, какая я есть, и разлюбит. А приедет он через много-много дней, и я буду совсем-совсем другой. Я долго думала про это, может час, а может два, а потом не выдержала и окликнула маму и рассказала ей про это.
— Глупенькая, — сказала мама, — ты будешь еще красивее.
— Откуда ты знаешь? — спросила я.
— Я все знаю, — ответила мама, — и что было, и что будет!
— Как цыганка? — спросила я.
— Как мама, — сказала мама.
— Тогда скажи, Даник напишет мне или нет? — попросила я.
— Напишет, — сказала мама.
И я стала ждать письма. Каждый день, приходя из школы, я прежде всего смотрела почту. Но письма из Америки не было. И так прошло два месяца. А потом папа пришел раньше времени с работы и сказал, что облздрав их с мамой переводит в Гомельскую область, в Калинковичи.
— Им кажется, что здесь мы набрали не все рентгены и нам решили их добавить, — сказал папа, — так что опять в путь-дорогу!
— А как меня найдет Даник? — испуганно спросила я.
— Если судьба, то найдет, — сказал папа. — А если нет, то на нет и суда нет. Такие вот пироги, евробелка!
Евробелкой меня зовет папа: когда мне было пять лет, я как-то в детсаде узнала, что у меня папа еврей, а мама — белоруска. А кто я, мне не сказали. Я пришла домой и спросила у мамы:
— А кто я?
— Спроси у папы, я в таких сложных вопросах не разбираюсь, — сказала мама.
А папа выслушал меня, подумал и сказал:
— Тыевробелка.
— Почему? — спросила я.
— Потому что у тебя папа еврей, это значит евро, а мама белоруска — это значит белка, вот и получилось евробелка! — объяснил папа. — Довольна?
— Довольна, — сказала я.
А потом я про это спросила у бабушки Розы. И бабушка сказала:
— Если по-еврейским законам, то национальность по маме, и ты — белоруска, а если по-белорусским законам, то по папе, и ты — еврейка. Так что, кем хочешь, тем и будь!
А дедушка Адам объяснил все по-другому:
— Все люди от Адама и Евы. Так что ты Адамова внучка!
— Твоя? — уточнила я.
— И моя, — согласился дедушка.
Так меня дома и зовут: то евробелка, то Адамова внучка.
Я как-то про это рассказала Данику, и он сказал, что будет меня звать просто белкой. И покупать мне орешки, которые я очень люблю. Если бы он знал, в какое колесо попала его белка?
В последнюю неделю перед отъездом из Краснополья я, каждое утро просыпаясь, колдовала, как маленькая девочка:
— Пожалуйста, пожалуйста, пусть сегодня будет письмо от Даника!
Но письмо не пришло... И мы уехали.
Из Калинковичей я послала письмо на краснопольскую почту и очень просила переслать мне письмо, если прибудет на мой старый адрес. Но никто мне не ответил. Значит, не твоя судьба, как сказал папа. А какая моя судьба?
А моя судьба оказалась совсем-совсем нехорошей. Через несколько месяцев после переезда в Калинковичи неожиданно умерла мама. Пришла с работы, прилегла отдохнуть и не встала. И осталась я с папой. А потом к нам приехал дедушка Адам. И папа сказал, что бабушка Роза из Бобруйска уезжает в Израиль.
— И ты поедешь с ней, — сказал папа, — мы с дедушкой подумали, что так будет лучше.
— А ты? — спросила я.
— А я пока останусь здесь, — сказал папа. — Надо маме поставить памятник, управиться с кой-какими делами. А потом приеду к вам.
— И я останусь с тобой, — сказала я. — А потом приедем вместе.
— Надо, внучка, тебе ехать сейчас, — возразил мне дедушка. — Сама понимаешь, бабушка Роза очень старенькая, и с переездом ей одной не управиться.
— А пусть она подождет нас с папой, и вместе поедем, — сказала я.
— Бабушка не может ждать, — сказал папа. — Ей срочно надо делать на сердце операцию.
— И эту операцию могут сделать только за границей, — сказал дедушка.
Я не хотела оставлять папу одного. Я каким-то третьим чутьем чувствовала, что мне что-то не договаривают. На душе было совсем плохо...
Улетали мы с бабушкой из Минска. Папа с дедушкой провожали нас. Перед барьером с таможенниками папа прижал меня к себе и долго так стоял, пока дедушка не тронул его за руку:
— Им пора уже!
— Пора, — папа еще крепче прижал меня к себе, поцеловал и отпустил. — Будь счастлива, дочка!
— До встречи, папа, — сказала я.
Он ничего не ответил.
Бабушка все время плакала: и в аэропорту, и в самолете, и в Израиле. Она все знала. Не знала только я, что папа смертельно болен и осталось ему жить считанные месяцы, и он не хотел, чтобы я мучилась, присутствуя при его последних днях... Он не успел поставить памятник маме, и дедушка поставил памятник им обоим...
Мы с бабушкой поселились в Тель-Авиве, недалеко от торгового центра «Кикар Атарим». Бабушке сделали операцию, но после ее ей стало хуже, она с трудом стала передвигаться и почти все время проводила дома, сидя у окна. Из нашего окна был виден краешек моря. И бабушка все время меня спрашивала:
— Там за морем Бобруйск?
— Да, — говорила я.
И бабушку это радовало.
Я окончила школу хорошо, но решила поступать учится после службы в армии.Идти служить мне надо было в сентябре, и я на несколько месяцев устроилась продавщицей в ювелирный магазин. Держали его бывшие киевляне. Заправляла всеми делами хозяйка Елизавета Марковна, а хозяин Лев Львович в основном курил, сидя в кресле возле магазина. Когда жена начинала шуметь, что он ничего не делает, он, не вставая с любимого кресла, поворачивал голову и спокойно говорил:
–Ша! Я работал там, чтобы ты могла работать здесь! Начальник ОБХС плакал, когда я уезжал. Эта девочка не знает, почему он плакал, но ты знаешь! Так что дай мне спокойно пожить оставшиеся годы. И видеть во сне эту девочку, а не эти бриллианты, от которых мне тошнит!
После этого Елизавета Марковна ворчала минут пять, а потом говорила мне:
— Ты думаешь, он там ворочал делами? Нет, это я ворочала своей головой и там, и тут. И благодаря мне он просидел спокойно двадцать лет в «Ювелирторге». А без меня его бы посадили в первый год, не дай Бог! Я ему все отчеты делала, и так делала, что ни один комар не мог подточить носа! Но мужчины всегда считают, что, раз они носят штаны, значит, все держится на них! Пусть так считают, а мы будем считать денежки, так говорила моя мама, самая умная женщина в Виннице.
Бабушка очень любила слушать мои рассказы о разговорах Елизаветы Марковны и Льва Львовича. Во всех историях она всегда была на стороне Льва Львовича.
— Мужчины всегда правы, — учила меня бабушка житейской мудрости. — Они — большие дети! А что надо ребенку? Казаться взрослым! Твой дедушка Рахмиил кроме своей бухгалтерии ничего не знал, но любил давать советы по любому поводу! И я говорила — хорошо, ты прав, я сделаю, как ты говоришь, и делала, как я знаю. И прожили мы жизнь, дай Бог каждому! Спроси любого в Бобруйске, и он тебе скажет, что умнее Рахмиила там не было человека. А все потому, что я создавала ему авторитет! Каким мы создадим мужчину, таким он и будет! Какой был у Хаи-балабос ты из Касриловки муж?! Не голова, а Дом Советов! А она на каждом углу кричала, что она мишугенер. И что ты думаешь? Все считали его дураком! Даже Мома-дурак говорил, что он умнее Хайкиного Аврома!