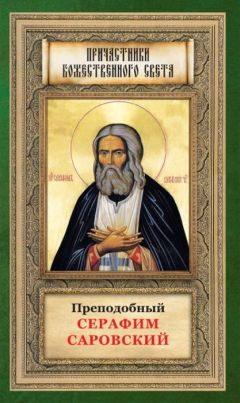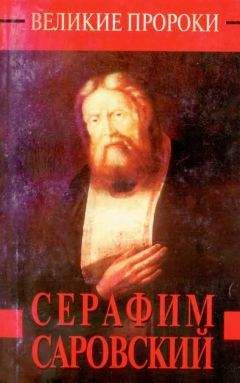— Отец, мама!.. Я слепой.
Бесшумно сомкнулся занавес.
Я знал наверняка, что Максимов прикажет явиться. Но я ускользнул из клуба, внутри меня еще жил спектакль — и до смерти неохота видеть начальника, у которого отбывает срок старый лаптеплет Земский, бывший киноартист на роли джентльменов.
Судьба улыбалась мне во всю пасть, как ловкий фармазонщик — лопуху-фрайеру. Агитбригада безотказна, начальство нами форсит, зрители довольны, Дуся, мой соловей залетный, поет слова Лебедева-Кумача по нотам Дунаевского…
И вдобавок нежданно-негаданно я подружился с Комгортом.
Забегу далеко за пределы этой повести: точку нашей с ним дружбе поставила его смерть — после войны, в другую эпоху, в середине семидесятых.
Валерий Комгорт сам не знал, от каких предков произошел, — я думаю, корни в Прибалтике, судя по внешности и чудной, наподобие аббревиатуры, фамилии. Был он чуть ли не с рождения беспризорником, скитался, для пропитания воровал по мелочи. В детдоме оказался при красном галстуке, вступил в комсомол. И, наконец, где-то на Урале стал секретарем в крупной комсомольской организации — то ли городской, то ли на большом заводе или новостройке.
Ясно, что при такой биографии он «заимел авторитет» у приблатненных подростков, разговаривал с ними на их языке и понимал обстоятельства. Это его и подвело. При очередном наборе молодых кадров для НКВД Комгорта взяли за шкирку, приклепали на воротник малиновые петлицы — и шагом марш воспитывать малолеток уже не на воле, а в зоне. Так он, свеженький, с ходу влетел на Центральные мастерские начальником КВЧ.
Но!
Как говорил Александр Сергеевич, бывают странные сближенья. Ликвидировали РАПП, Российскую ассоциацию пролетарских писателей. Пошерстили, до времени бескровно, ихнюю верхушку. Те, которые литераторами были разве что по касательной, ни на что кроме руководящей партийной работы не годились, — в этом-то качестве их и распихали по населенным пунктам привычной к любым безобразиям российской многотерпеливой провинции. Надо же было, чтобы там, где воспитанием юной смены ленинцев занимался Валерий Комгорт, во главе агитпропа или даже партийным секретарем объявился идейный вождь раздолбанного РАППа Леопольд Леонидович Авербах.
Это имя Валерий произносил с почтительным придыханием. Авербах, громила в литературе, сглатывая ностальгическую слезу, толкал ему вдохновенные монологи о счастье творчества, читал на память каких-то Мандельштамов и Клюевых и упорно уговаривал взяться за перо, дабы сотворить поэму о тернистом, но славном пути от нищей безотцовщины к светлому будущему. Дьявол сумел искусить наивную душу: Комгорт запасся тетрадями и приступил к созданию эпоса. Брать рифы рифм оказалось делом непосильным, Авербах просветил его насчет белого стиха… Короче говоря, в некое утро передо мной легли три общих тетради, где почерком школьника, отмеченного пятеркой по чистописанию, были заполнены тысячи строк.
Сначала я растерялся. На уроках русского языка Валерий был явно среди неуспевающих. Полигимния и Каллиопа чихать на него хотели с высоты Олимпа. А мне что делать и куда деться, если положение обязывает? Я вздохнул и опасливо предложил:
— Гражданин начальник, давайте все перепишем. С первой до последней страницы.
Минута молчания. Как на помине усопшего.
— Завтра в девять утра, — сказал Комгорт. — Придете ко мне домой, вахта пропустит.
Через несколько дней мы были с ним на «ты». Разница судеб и обстоятельств, табель о социальных рангах — все это за письменным столом бред и прах, мы братья писатели, мы поэты! Дело еще, конечно, в том, что по возрасту он меня опережал совсем не намного.
Возраст! «Так вот где таилась погибель моя». Время кругом через левое плечо не повернешь.
Первой вестницей моего крушения была Клава Бесфамильная. Она дежурила на коммутаторе и слышала телефонный разговор Геймана с управлением Темлага. Речь шла обо мне.
— Ай, Моська! — сказал я пока еще весело. — Собачка лаяла на дядю фрайера. Комгорт меня в бедность не сдаст, близок локоть, да не укусишь.
— Но Гейман всю дорогу вякал, что тебе уже восемнадцать…
Так! Топором по черепу. Как же я мог забыть собственный день рождения, дату совершеннолетия! Прошел уже месяц с лишним, кончается февраль високосного года, на воле об этом напомнила бы милиция: пора получать паспорт.
— Дусе я еще не сказала… Может, все-таки Комгорт что-нибудь придумает.
Клавусенька, вся надежда лишь на него! Ведь это он сочинил для меня должность завклуба, ее вообще не существует, числюсь-то я учеником токаря. На Центральных мастерских штатные места для взрослых строго определены и каждое давно занято…
Я вбежал к Валерию, когда он гремел по телефону: «Вы сами хвалили нашу агитбригаду!.. — И мне — яростной отмашкой руки: выйди!! — За этого мальчика я кладу голову и партийный билет!..»
Он что-то еще кричал. Звук был слышен, слова неразборчивы. А потом раздался выстрел.
Я рванул дверь. Комгорт стоял посреди комнаты и палил из пистолета в потолок. Телефонная трубка висела на положенном ей рычажке и тихонько вздрагивала.
На крылечке вахты, кощеевой избушки, стоял вертухай с трехлинейкой, ждал. Дуся рыдала, как новобрачная на проводах рекрута. С Комгортом и агитбригадой я простился еще вчера, мы уговорились, что массовки у лагерных врат — повода Гейману для очередного доноса — не будет.
— На какой лагпункт едем? — спросил я уже в теплушке, когда станция Молочница осталась позади. Навсегда.
— Вопросы задаю только я! — огрызнулся конвойный, будто он следователь, а не отбывший срок бытовила. — Куда ехать, окромя лесу.
Да… «Об этом знает только темный лес, сколько там творилося чудес!» Ну что ж, я ведь срок начинал на обычном лагпункте, успел хлебнуть лесоповала, пугали бабу… Тяжко, но терпимо, если ты ладно одет, сытно кормят и в бараке тепло. Двуручная пила — тебе, мине, хозяину, — я к ней, хотя до лагеря в руках не держал, быстро приноровился. Дело нехитрое: от себя не толкай, силы не применяй, рука сама нажмет, когда надо. Напарник мне достался — лучшего не найти: зека по второму сроку, архиерей Виноградов. Зимой пила идет легко, смола не тормозит, комары не мучают. Рабочий день короток: никакой подсветки кроме одного костра на бригаду, а темноты конвой не любит…
— Идиллия! — возмутится читатель, знающий хотя бы «Один день Ивана Денисовича» («Платона Каратаева» — поправлял, вежливо ухмыляясь, Юра Домбровский). Погодите, будет вам и свисток. А пока что я еду в теплушке маршрутом в неизвестность, утихомириваю в себе тревогу… Впрочем, покуда длится дорога, поговорим и «насчет картошки, дров поджарить».
Апрель начался оттепелью. Стали промокать валенки, переданные мамой еще в Бутырке. Потом полегчала большая горбушка — за неделю с кило сто до семисот граммов. Первый котел со щей и каши потощал до баланды и жгуче-соленой тюльки. Работа, наоборот, потяжелела: как мы с архиереем ни старались, до нормы не дотягивали. Пайка уменьшалась чуть ли не ежедневно.
Наступила обычная в лагере весенняя голодуха, еще не сам голод. А меня уже одолела одной лишь думы власть: где бы добыть жратвы?
Я сменял полушубок на бушлат, потому что бригадир дал в придачу буханку хлеба и брусок сала. Кто-то донес пахану, старосте барака, давно щерившему зубы на мою московскую меховушку. Паны передрались, а я загремел в кандей — он же, на языке Овидия и Горация, карцер.
Меня пихнули в одиночку. Верхнюю одежду содрали, окошко без стекол, только сверкающая инеем решетка. Сперва я нормально дрожал, потом руки стало сводить судорогой…
А в коридоре топилась печка. Докрасна — я на пути засек — раскаленная «буржуйка». Никаких у меня не осталось желаний, кроме одного: хоть на минутку оказаться близ этой печки. Там кто-то выкликивал фамилии, наверное, убывающих на этап.
— Александров! — крикнули в коридоре. Именно так, с ударением на последнем слоге. И еще раз: — Александров!
Никто не откликнулся. Кандей ждал, кого вызовут следующим.
— Александров!
Тут я не выдержал. Мысленно разбиваясь в лепешку, решился:
— Здесь!
В коридоре стоял сам начальник лагпункта Уманский в окружении вертухаев и выкликнутых штрафников. Я пробился сквозь них, как таран, одним рывком достиг печки, простер над ней руки, обмер от наслаждения.
Уманский схватил меня за плечо, развернул к себе лицом:
— Ты Александров?!
Переменив руку, он вцепился мне в самый ворот рубахи, у кадыка. И, хрипло крякнув, стал хлестать по щекам наотмашь, у меня только голова откидывалась: вправо, влево, вправо, влево… Вся российская матерщина воспаленной мокротой подступила к горлу, — я выхаркнул сгусток мата прямо в чекистскую ряху начальника.
Выстрел оглушил меня, будто пуля пробила барабанные перепонки. Уманский стрелял в упор, и я до сих пор не знаю, почему промахнулся. Думаю, в последнюю долю секунды опомнился, толкнуло под руку. Тогда в лагерях самовольно еще не расстреливали.