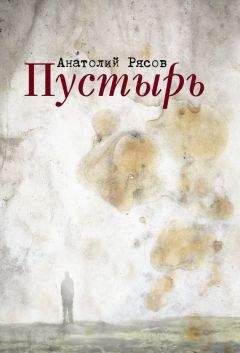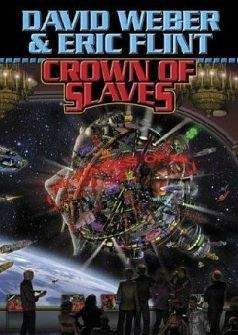Миша все еще сидел в зале, когда собрались члены правления и вызвали Кокарса. Редактор вечерки Димитреев представил художника, сказал: "Товарищ Кокарс у нас очень активен. Если позволить, сож-же-рет весь бю-бю-джет"…
Иверт, тогда специальный корреспондент "Правды" в Латвии, резко отозвался:
— Слышали. И видели. Вы допустили ошибку, товарищ Димитреев. Это не наши рисунки. Так рисуют на Западе.
Димитреев поспешно засыпал словами:
— Мы уж-же говорили, мы уж-же д-дали указание не печатать. Пускай науч-чится уважать советского чел-ловека…
Задвигал квадратной челюстью Салеев — бог, царь и судья газеты "Советская Латвия":
— Ишь, сорвались! Ничего святого нет!
Иверт скривил крысиные свои губы, зашевелился тонкий, шилом, нос:
— Ничего! Мы научим веровать и молиться!
Но — просчитались. Не в жилу действовали, как выражался тогдашний редактор "Зорьки". Через неделю в Ригу пожаловал гость из ЦК партии, читал доклад о задачах печати в свете исторических решений КПСС. Он похвалил нескольких латвийских газетчиков, а о Кокарсе сказал: "Меткий солдат партии, умело поражающий оружием сатиры все, что нам мешает двигаться к коммунизму".
О том, чтоб больше не печатать карикатуры Илмара, речи быть уже не могло. Но не такие люди Иверт и Салеев, чтоб забывать обиды. Самый популярный в те времена художник города с миллионным населением так и остался без членства в Союзе журналистов.
— Сумасшедшая, гнусная страна! — говорил себе Миша, глядя сейчас, как светится окно мансарды. — Хрущев был клоуном на престоле, стучал туфлей по столу в зале заседаний ООН, крыл иранского шаха матом, публично, перед ста тысячами москвичей, но он был талантом. Надо быть великим талантом, чтобы оставить пшеничную Россию без хлеба. Хрущев это сделал, и все в стране заговорили о "Русском чуде", потому что как раз в тот год на экранах шел широко разрекламированный фильм немцев Торндайков — "Русское чудо". Россия сидела без хлеба и покатывалась со смеху над фильмом, где поля колосились стозерновыми колосьями. Но надо отдать Хрущеву должное: он расшевелил муравейник. При нем пошли догонять Америку, начали кричать о научной организации труда, в магазинах красили стены в разные цвета и делали Доски почета кривыми, как зеркала мадам Помпадур. А "Крокодил" взял да и поместил рисунок — купальщицу в бикини! И все увидели, что наступили времена неслыханной смелости — почти, как на Западе.
Прошло только десять лет, сегодняшним газетчикам смелость Кокарса кажется чем-то, чуть ли не врожденным в быт, как телевидение и смывные туалеты, сегодня в Риге есть дюжина таких же сильных карикатуристов, но они уже учились новому в академии, а он не перенес потерю славы. Как многие в этой стране, столкнувшиеся с чугунной тупостью бюрократии, Кокарс запил. Неделями валялся у чужих людей, жил на содержании у женщин, иногда забредал в редакцию, приставал к знакомым и чужим:
— Дай три рубля!
Но бывали дни, когда вновь прорывался в нем художник, и тогда горел по ночам свет в мансарде, появлялись в газетах новые карикатуры, которые легко было узнать издалека.
Каждый раз, когда Миша Комрат видел свет в мансарде и шесть волчих глаз станции радиоглушения, сладкое чувство мести затопляло сердце. Все, что правительство пыталось заглушить, вещало о себе в любом рисунке Кокарса. Бездельничающие чинодралы, ленивые управдомы, ворующие известь и гвозди, холодильники, в которых можно греть, и утюги, пригодные разве, чтоб прикладывать их к синякам, новые дома, еще до сдачи требующие капитального ремонта, — все это в конечном счете и был советский образ жизни. Гражданам СССР полагалось верить, что их жизнь — вершина счастья, тот правильный путь, ради которого совершилась революция и было пролито море крови. Западное радио разрушало это убеждение. Западное радио глушили, но нельзя было заглушить юмор и сатиру в собственных газетах, призванных "оружием смеха убивать помехи". Тысячи карикатуристов, фельетонистов и репортеров день за днем обрушивали на советского читателя все новые и новые факты о бюрократах и бракоделах, суде неправедном и взяточных чиновниках. Хрущев пытался пресечь критику и самокритику, "Вы бьете по своим!", но едва в газетах появились сообщения о черных днях сатиры, страну захлестнула такая волна гадостей, что ЦК сочло нужным миллионными тиражами расклеить плакаты со стихом Маяковского: "Нужно, чтоб в лоб, а не пятясь, критика дрянь косила, и это лучшее из доказательств нашей чистоты и силы". Партия не могла убивать лучшее доказательство своей чистоты и силы.
Печать десятилетиями "била" по "дряни", народ постепенно приходил к мысли, что дрянь — это и есть непреходящее в советской жизни, и все острее становилось желание спросить себя: "Да полноте, может быть мы имеем дело не с трудностями роста, а с ростом трудностей?"
— Если я когда-нибудь уеду отсюда, — слабо улыбался Миша, — если я уеду и попытаюсь написать книгу о советской жизни, нехудожественная получится книга. Слишком много будет в ней быта, слишком много смеха сквозь слезы и спрессованной ненависти… Но кто может жить в этой стране и оставаться олимпийцем?
Каждую ночь, когда он видел фонари станции радиоглушения, он спрашивал себя, отчего ООН не требует прекратить радиопиратство, почему западные страны не заглушают в отместку Москву, разве они не знают еще, что эта страна понимает только язык силы и только перед силой лебезит? А может быть Запад нарочно молчит, зная, как сильно радиоглушение бьет по самим глушителям? Даже если бы не было газет и журналов с бесконечными фельетонами о взяточниках и головотяпах, советский человек должен был бы усомниться, в слове большевистской правды только из-за радиоглушения. Глушение распаляло воображение, а запад работал на стольких языках и диапазонах, что заглушить все было невозможно, даже имея миллиарды КГБ. И нельзя же было глушить Англию на английском, Германию на немецком. К тому же постоянно появлялась необходимость поклониться то Вилли Брандту, и тогда не глушили "Немецкую волну", то Никсону, и тогда можно было слушать "Голос Америки". А кто слушал раз, да знал, что этот раз может быть последним, тот норовил повторить, а повторяя, попадал в глушение, слушал только обрывки, и ему казалось, что главное-то он не услыхал, что там, по ту сторону, знают гораздо больше, что правда, которую советский человек видит вокруг себя — еще не вся правда, и желание его знать правду целиком росло.
Каждый день по вечерам тысячи советских людей прилипают к транзисторам в надежде утолить свой голод информации и, чем больше глушат Запад, тем больше голодных пытаются его услышать…
И уж совсем шальная мысль закрадывалась иногда в голову: а может быть в Москве, в каком-то тайном-претайном учреждении сидит хитрый и умный враг теперешних правителей и подзуживает их глушить, глушить, глушить проклятый Запад?!
А потом было утро и кричал будильник. Миша слышал его натужный звон, хриплый и злой, как Стефанида, когда она говорит об евреях, но этот звон не имел отношения к нему. Миша Комрат был далеко отсюда, он сидел на улице за столиком кафе, а внизу было небо и дорога между холмами; сквозь зелень деревьев проглядывали золотой и серебряный купола, а над ними, на другом холме, светилась на солнце четырехугольная башня. Миша знал — это Иерусалим, потому что видел купола и колокольню в кино, в каком-то видовом фильме. То было очень давно, еще в те времена, когда он жил в Советском Союзе. Они пошли с Ханой в старый "Спартак" на улице Кирова, рядом с кинотеатром "Рига", закрытым на ремонт, смотрели фильм про Иерусалим, а какая-то латышка с удивлением говорила мужу:
— Ты видишь, Янка, видишь? Какая красота, и это все принадлежит жидам?!
Миша помнил, как называется золотой купол, как серебряный, но забыл название колокольни, он хотел спросить Бориса Кларенса, но Борис углубился в газету. Был он не такой, каким уехал в Израиль, а 'молодой, черноволосый, да и Миша был лет на двадцать моложе, и сердце у него совсем не болело.
— Хм, — сказал Борис, — а в Париже цены на кофе опять падают!
— Господи! — подумал Миша. — Париж, Мадрид, весь мир — это же совсем рядом, я на свободе, на свободе! Моя дочь на свободе! — и счастье, огромное, свежее, как летняя волна, накатило и обдало прохладой. Вокруг был Израиль, Родина, до самого горизонта, где еле проглядывал краешек Мертвого моря. И не было вокруг, сколько не кричи, ни одного райкома, ни одного цензора, никаких стукачей.
Но пришлось открыть глаза и увидеть все ту же комнату — 14,68 квадратных метра, раскладное кресло Тамары, стол, на котором разложена or еж да, печку в углу и клетку с зеленушками на печке. Птицы сидели на клетке, свешивали головы, искали корм. Миша еще раз оглядел свои четыре стены: синюю, красную и две желтых, еще раз вспомнил, что одна из стен — и не стена, а фанерная перегородка, за которой уже ворочалась и сморкалась Стефанида.