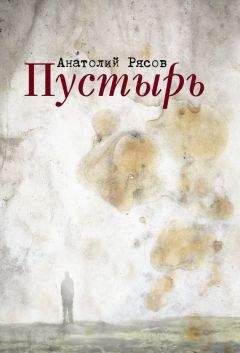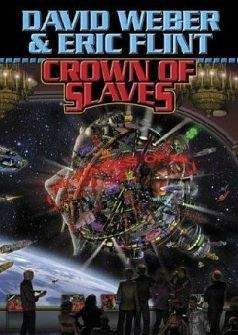— Зажигалку? Это идея. Простая зажигалка у него, конечно, есть, но газовая… Это ты хорошо придумал.
Она встала, пошла умываться, пока он складывал кресло-кровать Тамары и убирал постели.
— Но где он будет брать газ? — Хана стояла у зеркала, причесывалась.
— Нет, твои идеи всегда какие-то поспешные. Разве ты не знаешь, что газ — проблема? И потом, зажигалка слишком маленькая вещь. Марику исполняется 40!
— Может быть картину? Такую деревянную, интарсию, в латышском стиле?
— С самого утра меня взвинчиваешь? Что ты — нарочно издеваешься? Какая может быть картина? Рига? Домский собор? Что, Марик уезжает из Латвии? И при чем тут картина, которую вешают на стенке для всех? Я хочу подарок для моего брата!
— Пойдем! — попросил Миша. — Теперь пора. Там очередь растет каждую минуту.
Хана подошла к шкафу.
— В чем я пойду?
— Да в чем хочешь.
— К Марику?!
— Я думал ты о ломбарде.
— Ты никогда не думаешь обо мне. Мне не в чем идти к Марику!
— Старая история! — подумал Миша. — Сколько лет живем, столько лет ей в гости идти не в чем. Она спрашивает меня в чем идти, как будто вчера или неделю назад не знала, что у Марика день рождения, а у нее нет нового платья.
— Одень кремплиновый костюм.
— Чтобы замерзнуть? Ты же знаешь, что он не лезет под мое пальто.
— У тебя есть шуба.
— Шуба?!
Шуба была больным местом в их гардеробе лет двенадцать. Когда они поженились, Хана купила с рук плюшевую шубу из Шанхая. Спустя пять лет шубу покрасили в черный цвет, еще пять лет спустя отпороли манжеты и перешили воротник. Сколько же может женщина ходить в одной и той же шубе?
— Не знаю, в чем тебе идти, — сказал Миша. Может совсем не ходить?
— Ты хочешь, чтобы я не пошла на день рождения к родному брату?!
— Прошу тебя?! — сказал Миша. — Мы опаздываем. По дороге придумаем.
Они выбрали из шкафа новое итальянское пальто, купленное в Москве после трехдневного стояния в ГУМе, завернули его в бумагу, уложили в сетку. У них бывали тяжелые дни, до ломбарда они дошли впервые.
— Может быть я совершил преступление против моей семьи, когда втравил их в этот отъезд в Израиль? — в который раз терзал себя Миша и в который раз твердо знал, что нет, как раз наоборот: он совершил бы преступление перед женой и дочкой, имея возможность уехать, и не уехав, потому что это было тяжким преступлением не попытаться вырвать их из этой чудовищной страны и не вернуть в страну отцов.
Он искоса глянул на Хану: она выглядела нищей и больной в черной шубе с красной косынкой и в сапогах с надставленными головками.
— Ничего, — подумал он, — ничего. Здесь это не имеет значения, мы здесь временно, там — в настоящей, в прочной, долгой жизни будет у нее одежда.
— Что ты меня разглядываешь? — рассердилась Хана. — Все равно зимой я не буду носить итальянское белое пальто. Кто это может ехать в трамваях в белом пальто?!
Они прошли до угла Пернавас и Кришьяня Барона, сели в трамвай и всю дорогу, пока ехали, и потом, пока шли мимо Центрального универмага, Мишу не покидало чувство, что все кругом понимают, куда они идут.
А в ломбарде стояла очередь, серая с черным очередь понуренных людей, половина ее не умещалась внутри, человек тридцать ждали на тротуаре. Прохожие обходили очередь по мостовой, не выражая ни удивления, ни возмущения. Две старушки, высунувшись в окна напротив, равнодушно глядели на людей у ломбарда, будто они были естественным продолжением крепостной стены.
Ломбард сам по себе казался Мише чем-то таким, чего бы не должно быть в социалистическом государстве, но уж вовсе невозможным показались объявления, вывешенные над окошками приемщиков:
"Импортные фотоаппараты не принимаются".
"Панбархат, креп-жоржет и набивные ткани не берем".
"Прием обуви всех сортов прекращен".
— Простите, вы рижанин? — спросил мужчина, стоявший впереди. Он был одет в хороший, но старый костюм, имел большую, красивую голову и отработанный певческий баритон.
— Коренной! — ответил Миша.
— Смешно, — сказал певец. — И грустно. В свое время, когда я учился в консерватории, я страшно ненавидел старьевщиков. Они брали вещи за пятую часть цены. Но брали, сударь! И еще можно было точно договориться, чтобы не продали, что придете и выкупите вещь. И они ждали. Отчасти они были меценатами, ей богу. И дорожили клиентурой. А здесь не берут, и точка. Я принес вчера совершенно новый "Кодак", и не взяли. Импорт. Сегодня, вот стою, и не знаю: возьмут или лимиты на серебро тоже исчерпаны?
— 20 копеек грамм! — сказала женщина сзади.
— Как так? Государственная цена скупки — 40 копеек за грамм серебра!
— А здесь ломбард. Дают 50% от магазинной цены.
— Если вещь новая! — вмешалась еще одна женщина. — Я принесла совсем новую юбку, только чуть замазалась в шкафу, может об стенку, не знаю, вот тут у подола маленькое пятнышко, возьми щетку, сойдет, так мне дают за нее пять рублей! Говорят — ношеная!
— А куда они денут старое?! — сердито спросила третья женщина.
— Вы сегодня купите в комиссионке старое? Все ищут новое. Комиссионки полны, никто ничего не берет. Скоро ломбард совсем закроют.
— А если у меня нет ни копейки? — изумилась Хана. — Где я должна взять денег?
В ней жила неистребимая, внушенная газетами и лекторами вера, что в этой стране человек не может оказаться без помощи, что "наверху" кто-то неусыпно заботится обо всех случаях в жизни граждан, и бывала страшно расстроена и поражена, когда оказывалось, что существует брешь в государственной системе заботы о гражданах.
— А кого это волнует? Крутись, как знаешь! — сказала женщина позади Миши.
— Им что, по ним, так хоть помирай! — сказала та, что стояла впереди.
Так ведь и помирать не умрешь без денег! У меня умерла бабка моей тетки, совсем старая старуха, 15 рублей пенсии получала. Так за гроб просят 40, за рытье могилы давай на водку — 3 рубля, за каплицу, попу, за свечки — еще 30.
— Извините, что я вмешиваюсь, — вежливо сказал певец. — Известный польский сатирик Ежи Лец сочинил такой афоризм: "Не будьте подозрительными, не ищите смысла там, где его нет".
— Что вы говорите мне слова да слова? — возмутилась Хана. — Если это ломбард, как они могут не брать вещи?! Должен быть кто-то, кто устанавливает справедливость!
— Вы меня спрашиваете?! — певец развел руками. — Я сам, как видите, стою, не знаю, возьмут мои подсвечники или же не возьмут.
— Анечка, — сказал Миша, — уже пять минут десятого. Там тоже очередь. Я пойду.
— Хорошо, конечно, не опаздывай. Если меня здесь уже не будет, значит все в порядке, я пошла дальше!
Он погладил ее по руке и двинулся в ОВИР.
Миша Комрат поднялся по узкой, темной Коммунальной улице, прошел под аркой русского театра с его новой алюминиевой башней и очутился на улице Ленина, возле ателье "Балтияс модес". Здесь всегда было трудно пройти, даже после того, как перенесли троллейбусную остановку; все равно возле ателье торчала непременно очередь, а тротуар был узкий.
И вот, едва завидев очередь, по советской, укоренившейся привычке, Миша машинально очутился около последнего в ней человека и спросил:
— Кто крайний?
Он знал, что в русском языке нет слова "крайний" для обозначения человека, стоящего в очереди в самом конце, но уже многие годы, как на вопрос: "Кто последний?" — то и дело следовал злобный ответ: "Сам ты последний!"
— Что дают?
Женщина впереди Миши, не удивляясь, что вот человек сперва встал в очередь, а уж потом хочет знать за чем, собственно, он встал, ответила:
— Да говорят "Морозко" будут давать, на Октябрьские.
— Почем метр?
— 32 рубля.
— 32,50! — со вкусом уточнила девица в итальянских, в обтяжку сапогах и плаще-макси, видимо, из Польши.
— А это что, приличный материал?
— На зиму хорошо. Ворсистый, не мнется.
— Синтетика! — сказала дама с выдающейся челюстью.
— Ну и что? — ответила девица в сапогах. — У вас есть деньги, чтобы покупать натуральное? 1500 за подержанную шубу?
— Не знаю, куда подевался мех! — сказала женщина, вставшая в очередь уже за Мишей. — Куда пропал весь мех? Раньше, еще в 1960, помню, в магазинах была и норка, и цигейка, даже каракуль, и не дорого…
— На экспорт гоним! — авторитетно сказала дама с челюстью. — Все продаем за доллары: крабов, икру, золото, теперь янтарь.
— Доллары тоже нужны! — наставительно заявила дама в пурпурном пальто и синих клеенчатых польских сапогах (Миша знал, что такие сапоги стоят в магазине, если бывают на прилавке, 18 рублей, а с рук их продают за 70). — Доллары тоже нужны. Мы живем в капиталистическом окружении, нам приходится с ними торговать.
— А почему они не продают нам свои автомобили за рубли? Может потому, что доллар обратимая валюта, ее всюду берут и всюду за доллары американцы платят золотом, а рубль не оплачивается? — ехидно спросила девица в сапогах, которые ей могли влететь минимум в 90 рублей.