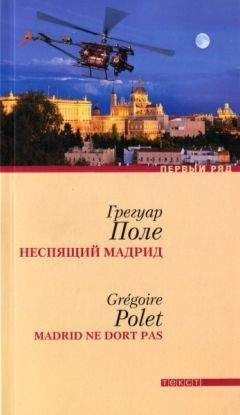Авария в электросети, парализовавшая вчера вечером центр города, носила криминальный характер…
РАБОТЫ
«ТЕЛЕФОНИКИ»
Из-за работ компании «Телефоника» будет перекрыто больше чем на неделю движение по улице Фуэнкарраль…
ПРОИСШЕСТВИЯ
МУЖЧИНА БРОСИЛСЯ ПОД АВТОБУС
Трагическое происшествие вчера вечером на Глорьета Бильбао, Мадрид. Около 23.15 Висенте Гонсалес, водитель автобуса, следующего по 21-му маршруту, увидел мужчину внезапно бросившегося под колеса. Гонсалес вывернул руль и резко затормозил, однако избежать трагедии не удалось; двое пассажиров доставлены в больницу с легкими травмами (что дает повод вновь поднять вопрос, обсуждавшийся в предыдущем правительстве, о ремнях безопасности в общественном транспорте). Пострадавший скончался на месте. Документов при нем не обнаружено. Одежда и гигиеническое состояние тела, по словам полиции, позволяют предположить, что это был бродяга.
Тело было доставлено в морг, где его…
— Антонио, buenas tardes[14]…
— Buenas tardes.
— …что я хотела сказать? Да. Тут заедет мой внук. Он поживет у меня в квартире в мое отсутствие. Я оставлю тебе ключ, отдашь ему.
— Вы уезжаете?
Когда Кармен Риеро говорит, морщины на ее лице под пышным платиновым перманентом приходят в движение. На ней внушительное манто из шиншиллы, которое, хоть жители Мадрида и утверждают, что осень у них такая же холодная, как зима, выглядит неуместно при десяти градусах тепла. Она кладет на конторку маленький ключик.
— На похороны, скончался дальний родственник в Ла-Корунье.
— В Ла-Корунье!
— Я не собиралась туда ехать, далековато, восемь часов поездом! Но раз такой случай… Побуду там немного, моя невестка беременна, хоть повидаю ее.
В холле появляется Филипп Куврер и подходит к конторке. Кармен Риеро воздевает руки к небу. Но при ее полноте, да еще в мехах, нелегко поднять их выше плеч.
— А, дон Фелипе! Я вас ждала.
— Buenas tardes, донья Кармен.
— Букет цветов! Ах, эти французы! У вас есть невеста здесь, в Испании? Уже?
— Нет еще, донья Кармен, но я тренируюсь.
Она берется за ручку чемодана, и Филипп Куврер спешит предложить ей свою помощь. Помахав на прощание Антонио, она покидает холл, следом за ней Филипп Куврер несет чемодан. Такси ждет ее в шквале автомобильных гудков, задерживая позади десятиминутную вереницу машин. Она садится, чемодан брошен в багажник, хлопают дверцы. Кармен Риеро опускает стекло. Шофер, Хуанхо Веласко, нервничает и трогает с места.
— Постойте, шофер, еще одно слово, прошу вас. Филипп!
Филипп Куврер с цветами в руке подходит и наклоняется к такси.
— Фелипе, милый, я позволила себе оставить ваше имя и координаты моему внуку, он будет жить у меня в квартире в мое отсутствие. Вы не рассердитесь? Надо было бы спросить у вас, но я подумала об этом в последнюю минуту. Так что не удивляйтесь, если он позвонит к вам одолжить соли. Будьте ему за бабушку, я вам доверяю.
Филипп Куврер согласно кивает и целует пухлую, мягкую щеку Кармен Риеро.
Хуанхо Веласко наконец трогается, и гневный поток машин катит мимо Филиппа Куврера, обжигая его злобными взглядами. Хуанхо Веласко закуривает сигарету, поворачивая на Айяла. Кармен, утопая в кресле и в шиншиллах, разражается нервными рыданиями и бормочет, опустив глаза: «Да простит меня Бог!» Потом, тоном ниже, уточняет шоферу:
— Терминал А, международные рейсы.
Филипп поднимается по ступенькам, вновь появляется в холле, спрашивает у Антонио почту, тот протягивает ему конверт:
— Из Парижа, — и снова утыкается в газету.
В лифте Филипп Куврер зажимает букет между колен, вскрывает конверт, достает и разворачивает отпечатанный бланк, приехав на четвертый этаж, берет букет в руку, толкает дверь и, читая на ходу, идет по коридору, где по-военному гулко стучат его каблуки. Со вздохом отпирает дверь своей квартиры 308, закрывает ее за собой, бросает связку ключей в корзинку для фруктов на комоде и произносит вслух, ни к кому не обращаясь: «Рукопись отклонена». Скидывает пальто на диван. Потом с письмом в руке делает несколько шагов к окну, выхватывает увядшие цветы из вазы, протыкает письмо острыми концами мокрых подрезанных стеблей, открыв окно, терпеливо ждет и, когда проезжает грузовик с открытым кузовом, прицелившись, запускает туда свои цветущие стрелы и письмо с отказом.
— Ай да бросок!
Окно закрыто. Филипп ставит в вазу новые цветы, снимает ботинки, отшвыривает пальто и разваливается поперек дивана. Он нервничает, но еще в хорошем настроении. Садится по-турецки на черные подушки, выпрямляется, встает, берет телефон, вновь усаживается по-турецки на диван и набирает номер. Что-то напевает. Занято. Он вешает трубку, встает, чтобы плеснуть себе бренди, проходит в кухоньку, звякают кубики льда, падая в большой круглый стакан. В кресле, по-детски поджав ноги, он думает о девушке из метро, припоминает, как она выглядела, пытается представить ее себе всю целиком, вспомнить ее одежки, вообразить ее без них.
Блондинка, это точно. Волосы довольно длинные, закрывают шею. Она заправляла их за ухо. Без очков. Глаза? Голубые, наверно, или карие. Он не помнит, какие брови. А это, между прочим, первый признак натуральной блондинки. Еще корни волос, но их он тоже не помнит. Не помнит и шею, даже были ли на ней бусы. Короткий полосатый топик — это, пожалуй, первое, что он заметил. Одежка легкая, не по сезону. Должно быть, она ехала недалеко; вероятно, это был короткий путь из какого-то места, где она настолько у себя, что может снять пальто, в другое такое же место. У нее была сумочка — все-таки вышла не совсем раздетая, — зеленый ремешок с металлическими гвоздиками перечеркивал черно-белые полоски от плеча к бедру, проходя, как подписанная перевязь на «Пьете» Микеланджело, между грудей (которые, по правде сказать, были так малы, что их и не различить бы без этой весьма уместной детальки. Нарочно? Были ли нарочитость в ее позе и лукавство во взгляде? Что можно узнать о женщине по ее глазам?). Филипп ловит себя на том, что говорит вслух. Как ее зовут? Сколько ей лет? Двадцать — двадцать пять. Работает? Учится? Замужем? Он не припоминает ни обручального кольца, ни колечка, достаточно дорогого, чтобы говорить о помолвке, о серьезной помолвке. Как она живет? Как смотрит на жизнь? Какие у нее принципы? Она подвержена условностям, чуточку взбалмошна, без тормозов. Филипп Куврер понимает, что придуманный им портрет начинает походить на него самого. Нервно фыркнув, он допивает бренди, высасывает льдинки, снова берется за телефон и набирает номер. На этот раз не занято.
— Palacio Real de Madrid, ¿en qué puedo atenderle?
— Ay, ¿no es el 91 4 110 127?
— No. Se ha equivocado. Es el 91 1 110 127.
— Pues, perdone[15].
Летисия кладет белую трубку на белый аппарат. Ее конторка тоже белая, пол из мрамора, белые стены. На ней ярко-алый костюм и золотые браслеты-цепочки на запястье, которые выразительно позвякивают о белизну конторки всякий раз, когда она кладет перед посетителем входной билет. Еще четверть часа продавать билеты, и она прикроет лавочку. Потом, еще через сорок пять минут, выставка и весь Королевский дворец закроет свои двери. Вокруг себя она видит открытки, которые тоже продаются, каталог выставки, великолепный, семьдесят три евро, аудиогиды, два евро (их осталось всего три в деревянном ящичке, выставка сегодня имеет успех), и трех охранников в коричневой форме, у каждого ремень, резиновая дубинка, желтая нашивка на рукаве, кепи, радиопередатчик, усы у двоих мужчин, стоящих перед металлоискателем, темный конский хвостик у женщины за экраном. Летисия читает роман Сарамаго «Эссе о слепоте», издание в бумажном переплете, подарок от «Эль Паис»[16] читателям прошлого уик-энда. Ее интересовало только бесплатное приложение, книга, газету она отдала, не читая, бродяге, который живет в домике из картонных коробок в подземном переходе, соединяющем парк Ретиро с улицей О'Доннелл. Рост у Летисии внушительный для чистокровной испанки: метр восемьдесят шесть, да еще пышная шевелюра, рассыпающаяся волнами, как из рога изобилия, до локтей и чуть ниже, каштановая, сказали бы на Севере, а в здешнем лексиконе просто светлая. В хозяйстве Королевского дворца не нашлось форменной одежды ей по росту, и пригласили портного снять с нее мерки. Она работает одна, продажа билетов на сегодня закончена, а трое охранников такие скучные люди, что ей за весь день и словом перемолвиться не с кем. Ей осталось страниц пятьдесят до конца романа, о котором у нее пока так и не сложилось мнения. Добравшись до конца главы, она отрывается от книги и в маленькое окошко, сквозь толщу, указывающую на преклонный возраст стен, ей думается, что стены как деревья, — вновь и вновь устремляет взгляд на портики, на колоннаду, бесконечную, классически ровную и размеренную, на восхитительные аркады из белого камня, бесполезные и полные красоты, на которые солнце вновь и вновь устремляет свои уже мягкие лучи, насыщенные голубым золотом и далекой дымкой изрезанного арками горизонта.