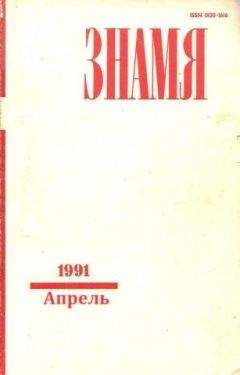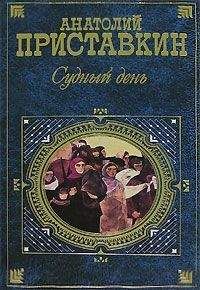– Ему двух часов не хватило! – крикнул кто-то. – А там делов: ткнуть да смотаться!
– Он-то смотался… Только все потерял от страха!
– Ты что, придурок, правда, что ли, испугался? – спросил Яшка-третий с добродушной улыбкой.
– Нет.
– А спица где? Где?
– На пол уронил.
– От страха, что ли?
– А он, вместо того чтобы поднять, – подхватил тут же Пузырь, – убежал из кино… Так ведь? Сознавайся!
– Нет, не так, – уперся я. – Я ее под ногами искал.
Яшка-второй, кореец, который молчал до поры, только жег меня косыми глазами, теперь закричал пронзительно:
– Зачем врешь? Зачем огрызаешься?
– Я не огрызаюсь, – произнес я.
– А что ты делаешь? Ты ведь врешь?
– Я сказал, что я не испугался… И не вру совсем.
– Тогда расскажи нам, как ты не испугался. Ты хоть признаешь, что ты виноват?
– Нет, – ответил я.
– Не признаешь, значит?
– Не признаю.
Яшка-Главный, который после своего заразительного смеха продолжал полеживать, глядя в потолок, будто остальной разговор его мало касался, на последних моих словах приподнял голову и сделал отмашку.
– Ну хватит! Хватит! – произнес капризно. – Не признает он никакой вины, слышали? А мы вот признаем!
Все притихли. Смотрели на него. И я смотрел, почувствовав, что сейчас случится главное. А главным будет то, что он произнесет.
Но он ничего не стал говорить. Не спеша поднялся, оглядел, будто впервые видел, спальню, сделал несколько шагов ко мне. Оценивающе осмотрел меня с ног до головы, процедил небрежно:
– Ну бывает, бывает от страха…. А вы что, – это к остальным, – такие все стали сразу храбрые, да?
Все замолчали. Никто не понимал, куда он клонит.
– Ну если храбрые… – Он посмотрел на Пузыря. Тот кивнул. Оба Яшки сидели молча. Они-то заранее знали, что скажет их Главный урка. – То будете храбро исполнять наше решение. Решение суда.
Он снова заглянул мне в лицо, как бы проверяя, насколько я чутко воспринимаю происходящее.
– Решение же суда таково… – Он вернулся на свое место, в середку между другими Яшками, и уже оттуда произнес то, что было ими решено еще вчера: – Гуляев Александр, за невыполнение дела, которое тебе поручили, за трусливое поведение в кинотеатре, за потерю оружия… при том, что вину, наперекор нашему мнению, не признал… приговариваешься нашим справедливым судом к высшей мере наказания: к смертной казни. Время казни будет объявлено в ближайшие дни.
В спальне стояла тишина. Все догадывались, что решение суда будет жестокое, но такого приговора никто, наверное, не предполагал. И я тоже. Не случайно Главный Яшка с любопытством заглядывал мне в лицо, пытаясь угадать, что я от них жду.
За развалившимся забором колонии, неподалеку, стояла с наглухо заколоченными окнами нежилая дача, а рядом находился сарай. Колонисты иной раз собирались там для всяких своих тайных дел: делили добычу, прятали сворованное, развлекались. Однажды держали там козу, которую сперли, уж очень здорово она горящие чинарики доедала, пуская дым из ноздрей. Но потом, с голоду, что ли, стала блеять, и так как желающих ее прирезать и сожрать не нашлось, слишком воняла, выпустили на свободу, пускай, дура, ищет свой дом.
Тут меня после суда и заперли, у них и замок откуда-то нашелся.
– Сиди, жди, – сказал Пузырь, который исполнял приказание.
Он чуть задержался, пока трое помощников, из самых крепких ребят, отдалились, буркнул, смачно сплевывая, что я сам виноват – валял дурака, а мог бы слезу пустить, признать вину, поползать перед ними… Они бы, может, изменили свое решение. Хотя он-то со вчерашнего дня еще знал, как было решено меня наказать.
– А что решили?.. Чего они будут делать?
– Они? – передразнил Пузырь. – Они сами делать ничего не будут. Может, для удовольствия позырят, как ты в говне утопать будешь. Они это мне поручат, а я еще кому-то. И пусть попробует не сделать!
– Значит… утопят?
– Зачем топить? Сам утонешь. Тебя только спустят через дырку… Там жижи метров пять вглубь. Пока до дна догребешь, тебя черви сожрут. А потом и выгребную яму закопают… Да ты в прошлом лете сам же закапывал, когда переполнилась… А что ты закопал, знаешь?
– Что? Там кто-то был?
Пузырь снова сплюнул и повернулся уходить.
– Хоть ты конченый, все равно не скажу.
– Сурок! – догадался я. – Но ведь говорили, что он сбежал?
– От нас не сбежишь, – произнес уверенно Пузырь и стал запирать дверь.
– А жрать принесут? – крикнул я вдогонку.
– Еще чего, – отвечал он уже из-за двери. – Зазря на тебя добро переводить. Ты же не коза… Блеять не станешь! – И он засмеялся, довольный своей шуткой.
Я огляделся. Все тут было мне знакомо. Сарай был срублен из бревен, как изба, и все в нем было сделано прочно и основательно. Почерневшие от времени неровные стены с торчащей из пазов рыжей паклей, железная крыша, под которой свивали гнезда воробьи. Пол, правда, был земляной, но устлан истлевшей соломой. Старый, из толстых досок, спалили еще в первую военную зиму. Было и окошко, но его заколотили накрепко горбылем, в щели пробивался неяркий свет. Говорили, что бывший владелец дачи устраивал здесь на ночь своих гостей, и от тех неведомых времен в углу остались остов железной койки без матраца и почему-то детские санки. В другом углу стояли две рассохшиеся бочки, от них мы отламывали доски, когда хотели развести костер.
Когда-то я здесь тоже кое-что заначил, и оно должно было меня дожидаться, если, конечно, никто мою заначку не распотрошил. Но сейчас было не до этого. Я присел на железный край койки и стал соображать. Соображения были самые простые. Влип из-за девки, а теперь утопят. В дерьме. Я уже слышал, что урки изобретательный народ. Особенно, если надо какое дельце похоронить. И бабкам на пирожки или на студень продадут, и в ледяную горку зимой могут залить. Так что это еще не самый худший конец. Только противно в дерьме среди белых червей плавать. Сверху через дырки рыла глазеют, отталкивая друг друга, а то и гогочут, потешаются, тоже ведь зрелище. Хоть в нос шибает. А ты с вытаращенными от ужаса глазами еще дрыгаешься, чтобы на поверхности удержаться, и голову задираешь кверху, чтобы воздуха чуть глотнуть…
Я помотал головой и заставил себя думать о другом: как отсюда драпануть. Хоть Пузырь и предупредил, что от них, мол, не сбежишь. Сбежать, взломав двери, не удастся, это я с самого начала знал. И запоры крепки, и за дверью сторож из ребят, завопит, если что. Да и крышу голыми руками не проломишь. А будешь ломать, услышат. Разве что копать под стену?
Я прощупал нижние венцы, пройдя квадратом по сараю. В одном месте наткнулся на оголившийся кирпичный фундамент и понял, что строили здесь на совесть. Это нынешние алкоголики на каменные столбы коробку поставят и безумно рады, что не заваливается по весне, когда снег тает. А прежние-то не только крепкие руками, но и крепкие умом были, знали, что и как надо делать.
Поняв, что сбежать не удастся, я сосредоточился на воспоминаниях, ничего другого не оставалось. Не хотелось проворачивать заново то, что произошло в киношке, но я и сейчас был уверен, что вел там себя как надо. Они на суде кричали: «Испугался, испугался», а никто не спросил: может, мне жалко ее стало. А не спросили потому, что этого слова не знают и не могут они о жалости судить. Птенец выпадет из гнезда, и то пожалеешь, чтобы кошка не съела. А тут живой человек… Беретик с косичками, светленькая челочка и синие-синие глаза…
Но и синеглазка, как я ее назвал, не была сейчас главной в моих воспоминаниях. Я картину с красивой мамой и кучерявым сынком стал восстанавливать кадр за кадром, и вот чудо – ничего не пропало. Как она по-королевски держится на людях, как проникновенно говорит о сыне и как он, до поры не понимая своего счастья, гневно произносит свою речь против всех на свете матерей…
А дальше у меня уже другое кино стало сочиняться. Как пришла эта мама к дому, где когда-то на ступеньках сверток в голубом байковом одеяльце лежал, и говорит: «Я тут мальчика оставила, давно, лет четырнадцать прошло. Может, вы слыхали, может, знаете, где он теперь?» А ей люди отвечают – мол, знаем, мадам, но сперва хотелось бы у вас спросить: как же вы посмели ребенка родного на улице, на чужом крыльце бросить? По какому такому моральному праву? Или у вас сердца нет? А она в слезы: «Сама не знаю, муж заставил. Сказал, что убьет меня и малыша, так я его спасти хотела!» «А, ну бывает, бывает, он что у вас, сильно пьющий?» «Да пьет хоть и нечасто, но уж, когда выпьет, прям звереет. А сейчас вот приболел, пить бросил, опомнился, иди, говорит, отыщи сына, я хочу с ним проститься». И тут сердобольные жильцы дают его, то есть мой, адрес… Живет, мол, ваш сын неподалеку, в колонии, куда попал из распределителя, но фамилию мы ему сохранили, как было указано в записке. Как придете, увидите, вам сердце подскажет, какой он теперь… И вот она на пороге. Кругом сотни огольцов. Так и норовят что-нибудь у нее спереть. А она ничего не замечает, вертит головой, смотрит и… не находит. «А вам кого, – спрашивают, – вам Гуляева, что ли, так его нет сегодня, он в кино пошел». И она идет в кино. И достается ей восьмой ряд, а место… Она смотрит в сумраке зала: ага, шестнадцатое место, где это? А он, то есть я, рядом проскакивает, идет дело выполнять. И садится позади красивой моложавой женщины. Из-под куртки достает спицу, пробует пальцем жало и, уколовшись, слизывает кровь и при этом с ненавистью смотрит в спину женщины, будто из-за нее укололся. А тут она, почувствовав его взгляд, оглядывается, и они утыкаются глаза в глаза. И долго, очень долго смотрят друг на друга, пока она не закричит на весь кинотеатр… А вот что она закричит… Мне не хотелось дальше смотреть свое кино…