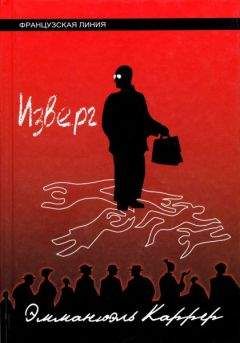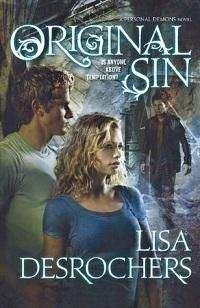Новые шокирующие сведения поступили и от родных Флоранс. Семья Кроле жила в Анси, Ладмирали хорошо ее знали. Родители жены, оказывается, тоже доверили Жан-Клоду деньги — премиальные, полученные отцом перед выходом на пенсию, а после его смерти — миллион франков, вырученный от продажи дома. Мало того что эти деньги, заработанные трудом всей жизни, были безвозвратно потеряны, так еще и мучительное подозрение примешалось к их горю и усугубило его: старик Кроле умер, упав с лестницы, и в тот день он был в доме один на один с Жан-Клодом. Надо ли понимать, что тот убил еще и своего тестя?
Как же так, ломали голову люди, как мы могли столько времени жить рядом с этим человеком и ничего не заподозрить? Каждый мучительно пытался вспомнить, не закрадывалось ли раньше, хоть на мгновение, в его душу подозрение. Председатель административного совета школы теперь рассказывал всем, как искал и не нашел имя Жан-Клода в справочнике международных организаций. Люк и сам вспомнил, что была у него такая мысль несколько месяцев назад, когда он узнал от Флоранс, что его друг в свое время прошел по конкурсу в парижскую интернатуру пятым. Удивил не успех, а то, что он, Люк, не знал об этом. Странно, мог бы и сказать. Когда он пристал к Жан-Клоду с вопросами и попенял за скрытность, тот, пожав плечами, ответил, что не хотел делать из этого событие, и переменил тему. Поразительно, как умело он отводил разговор от себя. У него все так ловко получалось, что собеседники не сразу спохватывались, а потом вспоминали об этом с умилением: надо же, какой скромняга, не кичится, предпочитает говорить о чужих заслугах, не распространяясь о своих. У Люка, правда, то и дело возникало смутное чувство, что в скупых рассказах Жан-Клода о его карьере что-то не так. Он подумывал, не позвонить ли в ВОЗ, узнать, чем же, собственно, занимается там его друг. Но не стал, решил, это глупо. Теперь ему не давала покоя мысль, что, сделай он это, может, все бы обернулось иначе.
«Может быть, — сказала Сесиль, когда он поделился с ней гнетущим его чувством вины, — может быть, тогда он убил бы и тебя».
Говоря о нем поздней ночью, они ловили себя на том, что не могут больше называть его Жан-Клодом. И Романом тоже не называли. Он существовал где-то за пределами жизни, за пределами смерти, и у него больше не было имени.
Прошло три дня, и они узнали, что он будет жить.
Новость эта, обнародованная в четверг, весь следующий день витала в воздухе, даже на похоронах стариков Романов, которые состоялись в Клерво-ле-Лак. Похороны Флоранс и детей отложили, чтобы дать судебно-медицинским экспертам закончить работу. Эти два обстоятельства сделали погребальную церемонию еще более тягостной. Как было поверить в слова об упокоении в мире, которые через силу произносил кюре, когда гроб опускали под дождем в мокрую землю? Никто не мог настроиться на подобающий лад, найти в душе хоть каплю покоя, позволить себе погоревать. Люк и Сесиль приехали на похороны, но с родней Романов они были едва знакомы и держались в стороне. Красные, обветренные лица крестьян-горцев осунулись от бессонницы, от неодолимых мыслей о смерти, от недоумения и стыда. А ведь Жан-Клод был гордостью Клерво. Все восхищались им: подумать только, человек так многого добился в жизни и, надо же, ничуть не зазнался, все такой же простой и стариков-родителей не забывает. Звонил он им каждый день. Говорили, будто он отказался от высокой должности в Америке, чтобы не разлучаться с ними. Местная газета «Прогре», посвящавшая делу Романа по две полосы в день, поместила фотографию, снятую в коллеже, когда Жан-Клод учился в шестом классе: он стоял в первом ряду, сияя доброй улыбкой, подпись гласила: «Кто бы мог подумать, что тот, кого ставили всем в пример, окажется чудовищем?»
Отец был убит выстрелом в спину, мать — в упор в грудь. Она-то наверняка, а возможно, и отец знал, что умирает от руки сына. В один и тот же час встретили они свою смерть — она придет за всеми и могла к тому моменту уже забрать их, но чтобы увидеть в последний свой час крушение всего, что было смыслом, радостью и оправданием их жизни? Кюре говорил, что они узрели Бога. Для верующих это само собой разумеется: в миг смерти душа видит Бога не отражением в туманном зеркале, а лицом к лицу. Даже люди нерелигиозные верят в нечто подобное: в тот миг, когда умирающий уходит в мир иной, перед ним наконец-то ясно и отчетливо, как фильм на экране, проходит вся его жизнь. И это-то видение, призванное стать для стариков Романов итогом всей их жизни, явилось им торжеством лжи и зла. Вместо Бога в обличье их любимого сына им явился тот, кто в Библии именуется сатаной, а среди людей считается извергом.
Все это не шло из головы: изумление обманутых детей в глазах старика и старушки; маленькие обугленные тела Антуана и Каролины, лежавшие рядом с телом матери на прозекторских столах, и еще одно тело — грузное, безвольное тело убийцы, такого знакомого и близкого всем окружающим и ставшего теперь чудовищно чужим, тело, которое начинало понемногу шевелиться на больничной койке в нескольких километрах отсюда. Тяжелые ожоги, говорили врачи, плюс действие барбитуратов и углекислого газа, но к выходным он должен прийти в сознание, и уже в понедельник его можно будет допросить. Сразу после пожара, когда все еще верили в несчастный случай, Люк и Сесиль молились, чтобы он умер, — ради него самого. Теперь они молились о том же, но ради себя, ради детей, ради всех живущих на этом свете. Останься он жить — он, Смерть в человеческом обличье, — и страшная, неотвратимая угроза нависнет над миром живых, и никогда не вернется покой, и ужасу не будет конца.
В воскресенье один из шести братьев Люка сказал, что Софи нужен новый крестный. Он предложил свою кандидатуру и торжественно спросил у девочки, согласна ли она. Маленький семейный праздник стал началом траура.
Прошлой осенью Дея умирала от СПИДа. Не сказать чтобы близкая подруга, но она была лучшей подругой одной из наших лучших подруг, Элизабет. Красивая — ее чуть тревожную красоту подчеркнула болезнь, — с роскошной рыжей гривой — она ею очень гордилась. Под конец своей жизни Дея ударилась в религию, устроила у себя дома что-то вроде алтаря и зажигала свечи перед иконами. Однажды ночью от пламени свечи загорелись ее волосы — и она вспыхнула вся, как факел. Ее отвезли в ожоговый центр больницы Сен-Луи. Третья степень, обожжено более пятидесяти процентов кожи — теперь она не умрет от СПИДа, возможно, этого она и хотела. Но умерла не сразу, нет, все тянулось почти неделю, и Элизабет каждый день навещала подругу — вернее сказать, то, что от нее осталось. Из больницы она приходила к нам выпить и выговориться. Говорила, что в каком-то смысле ожоговый центр — это даже красиво. Белые покровы, марля, тишина — ну просто замок Спящей красавицы. Дею не видно — только силуэт, обмотанный белыми повязками; будь она мертва, это выглядело бы почти умиротворяюще. Но в том-то и весь ужас — она еще жила. Врачи говорили, что она без сознания, и Элизабет, убежденная атеистка, ночи напролет молилась, чтобы это было так. Я в ту пору дошел в биографии Дика до того места, где он пишет жуткий роман под названием «Убик» и пытается представить, что происходит в мозгу людей, пребывающих в замороженном состоянии: мелькают обрывки мыслей, всплывшие из разоренных глубин сознания, медленно, но верно наступает хаос, короткие замыкания порождают вспышки ужасных озарений — в общем, все то, что скрывает безобидно прямая линия почти ровной энцефалограммы. Я много пил, курил, и мне все время казалось, будто я сплю и вот-вот с криком проснусь. Однажды ночью это стало невыносимым. Я вскакивал, снова ложился рядом со спящей Анной, ворочался, весь на взводе, готовый взорваться от нервного перенапряжения, — кажется, я никогда в жизни не чувствовал себя так плохо, и физически, и морально. Притом плохо — это еще слабо сказано: я чувствовал, как во мне поднимается, накатывает и вот-вот затопит меня невыразимый ужас заживо погребенного. А через несколько часов вдруг отпустило. Стало легко, свободно, я заметил, что плачу, большие горячие слезы катились из глаз, и это были слезы счастья. Я никогда в жизни не чувствовал себя так плохо и никогда не испытывал такого облегчения. Какое-то время я просто бессознательно упивался этим состоянием, сравнимым разве что с внутриутробным блаженством, а потом все понял. Я посмотрел на часы. Назавтра позвонил Элизабет. Да, Дея умерла. Да, как раз около четырех утра.
Только он один, лежа в коме, не знал, что еще жив и что все, кого он любил, погибли от его руки. Однако это отсутствие продлится недолго. Он скоро очнется. Что он увидит, открыв глаза? Белый потолок, белые стены, белые бинты, окутывающие его тело. Что он помнил? Какие образы вставали перед ним, пока он возвращался из небытия? Кто первым встретит его взгляд? Наверное, медсестра. Улыбнется ли она ему? Ведь в такие минуты они все должны улыбаться, поскольку медсестра становится матерью, встречающей свое дитя у выхода из длинного-длинного туннеля, и все они инстинктивно знают — иначе нашли бы другую работу, — как жизненно необходимы выходящим из этого туннеля свет, тепло, улыбка. Да, но ему? Медсестра не могла не знать, кто он: от журналистов, день и ночь дежуривших у входа в отделение, она, может, и отмахивалась, но прессу-то читала. И фотографии видела — одни и те же во всех газетах: сгоревший дом и шесть маленьких моментальных снимков. Добрая и застенчивая на вид старушка. Ее муж, прямой, как жердь, таращит глаза из-за стекол больших очков в роговой оправе. Флоранс — красивая, сияющая улыбкой. Он сам — добродушное лицо отца семейства, полноватый, с залысинами. И два малыша, главное — двое детей, Каролина и Антуан, семи и пяти лет. Я смотрю на них сейчас, когда пишу эти строки, — мне кажется, что Антуан немножко похож на Жан-Батиста, младшего из моих сыновей, — и представляю себе, как он смеется и немного шепелявит, как злится, как хмурит лобик, — все, что было так важно для него, всю эту плюшевую сентиментальность, которая и есть любовь, которой мы одариваем наших детей, и мне самому хочется плакать.