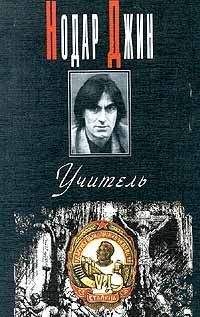— Почему же тогда, Крылов, он испаряется? И не может произнести слова?
Водитель снова повёл затылком.
— Говори! — велел я ему, и Крылов произнёс:
— Генерал-лейтенант Власик, товарищ Сталин, стесняется чесночного запаха.
— Правда, Николай Сидорович? — спросил я, и Власик шумно кивнул головой.
— А какого ещё стесняешься запаха, начальник? — не унимался я.
В этот раз он развернулся ко мне. А лицу придал такое выражение, словно собирался предъявить лицензию на идиотизм. Или справку о неозвученности.
Я предложил помощь:
— Ты разрыхлен, Власик?
Он отёр ладонью лоб и кивнул им.
— И увлажнён?
Ещё раз кивнул.
— Разговаривай! — вспыхнул я, но, как юбиляр, сразу остыл. — Разговаривай, пожалуйста, Николай Сидорович!
Поперхнувшись запертым во рту воздухом, Власик вытолкнул его из организма вместе со словами. Окончания этих слов уже растворились в спирте:
— Да, Ёсиф Высарьоныч, оно есть, я малость разрыхлен и увлажнён, но не потому, а потому, Ёсиф Высарьоныч, что мы с китайскими товарищами из охраны товарища Мао пропустили по вздоху за ваше здоровье. Это ж такой праздник, Ёсиф Высарьоныч, такой праздник! Вся же страна! Весь мир! Всё человечество ведь!
— Всё человечество, говоришь? — попробовал я.
— Прогрессивное, Ёсиф Высарьоныч!
— А непрогрессивное?
Власик замялся, но я снова помог ему:
— Оно тоже празднует.
Власик сперва не поверил, но потом закивал головой: конечно, мол, празднует — куда ему от праздника деться?!
— Непрогрессивное празднует потому, Власик, что мне уже семьдесят… Они боятся меня больше, чем бога. Которого не боятся: облапошили его. Тебе, мол, твоё, то есть шиш и воскресные гимны, — как сегодня в театре, — а нам наше. И ещё чужое. Я им говорю: побойтесь бога, ничто никому не принадлежит. Но бог уже мёртвый. Они меня боятся — я живой. И не только в воскресенье. А говорю им то же самое, что он — когда был живой. Вот они и спрашивают: а сколько Сталину осталось говорить? Знают: не в гору уже живу, а под гору.
— Что вы, Ёсиф Высарьоныч! — всполошился Власик и ткнул кулаком Крылова: выдай и ты что-нибудь про гору.
— Семьдесят лет — пик Казбека, товарищ Сталин! — выдал тот.
— А хотел бы ты жить в мою честь быстро, как этот пионер обещал сегодня с трибуны, Крылов? Я, мол, в честь Сталина хочу быстро вырасти и стать героем. Так хотел бы ты быть сейчас на пике, Крылов? — спросил я.
— Поздно родился, товарищ Сталин, — растерялся тот.
— И оказался прав: чем позже родишься, тем позже умрёшь. А чем раньше…
Власик громко задышал и сказал невпопад:
— Не всегда, Ёсиф Высарьоныч! У нас в деревне говорили, что вкус вкусу не указчик: кто любит арбуз, а кто свиной хрящик.
Я рассмеялся, и их обоих захлестнуло счастье.
— Насчёт вкуса ты верно сказал, начальник, — обратился я к Власику. — Мне, например, твои китайские товарищи из охраны не понравились. Особенно блондинка. Даже нос накрашен. Хотя нос — бесполезная вещь. И на фоне глаз выглядит глупо. Но у неё и глаза, как у коровы: ждёт не дождётся, когда доить начнут!
Наступила пауза, во время которой Крылов крутил затылком, а Власик сопел.
— Говори, начальник! — приказал я.
— Виноват, Ёсиф Высарьоныч, но с китайскими товарищами я всамделе отмечал ваше здоровье. Портвейном. И малость водкой. А блондинка — просто знакомая. Жениться на ней не планирую!
— Жена пойдёт против, — рассудил я, и Крылов, к ужасу своему, прыснул со смеху.
— Я серьёзно, Ёсиф Высарьоныч, — продолжил Власик, расстреляв глазами водителя в висок. — Просто знакомая. И, кстати, доброе сердце!
Я рассердился:
— Молчи: всё знаю! Ещё одна встреча с этим сердцем — и сам знаешь что тебе оторвём!
Мне, увы, нельзя не быть жестоким, хотя это каждодневный труд. Кроме того, все люди испытывают злость чаще, чем сострадание. Но поскольку я сегодня юбиляр, а Власик, соответственно, разрыхлен и увлажнён, — пришлось подобреть:
— Вот что, Николай Сидорович, мякинная ты башка! Ты баб не знаешь: тоже молодой. Ты — про её сердце, а баба с него и начинает: вверяет его дураку, и потом уж ему от всего остального в ней не отделаться. А дураку, Николай Сидорович, надо отрывать яйца. Потому, что за них враги и тянут его к себе: куда яйца, туда и сердце с мозгами.
— Виноват, Ёсиф Высарьоныч! — буркнул Власик, и в кабину вернулось снаружи тупое молчание.
4. Лучшая мысль — её отсутствие…
В детстве, при наступлении внезапной тишины, я верил народу: это тихий ангел пролетает. То есть дурак рождается. Глупая примета. Учитывая число дураков, в мире должна стоять бесконечная, но внезапная тишина.
Теперь уже тихих ангелов я бы просто извёл. Тишина — это одиночество. И от тишины нигде не укрыться. Даже на сцене Большого театра. Как сегодня. Среди славословий, оваций, гимнов и гостей. Весь вечер держалось обычное ощущение, что пребываю в одиночной камере собственного тела. Без мебели.
В прежние времена люди не знали одиночества: никто не воспринимал себя отдельно. Когда же это обвалилось? Видимо, чуму посеяли власть и достаток. Чем ты сильнее, тем более одинок.
Один индус признался мне, что Первозданный создал мир, заболев одиночеством. Собственно, в одиночестве никакого ужаса нет. Ужас в том, что оно воспринимается людьми, как ужас. И ещё в том, что против него нет лекарства.
Одни лечатся затворничеством. Другие богом. Третьи — поисками порядка в мире. Четвертые, наоборот, — абсурдного и необычного. Но абсурд тоже иллюзорен. В мире нет ни абсурда, ни логики — ничего. Мир создан из ничего, и это видно во всём.
Поэтому — даже когда Надя была живая — я был один. Ибо и любовь обрекает на замыкание в себе. Любить — это возиться прежде всего с собой.
Учитель, правда, говорил, что единственная область, где революция не закончится, — любовь. Поскольку она лечит любой душевный недуг. Хотя сама же недугом и является. И хотя он сам же, Учитель, «любил», порой ненавидя.
— Крылов! — прервал я себя. — Сколько осталось?
— Теперь недолго, товарищ Сталин!
— На какой вопрос ответил, Крылов?
— Вы спросили — далеко ли до вашей дачи, товарищ Сталин. До Ближней?
— Вопрос понял правильно, но ответил неправильно. Ещё раз!
— Километров 20, товарищ Сталин! Если б не пурга, — ехать четверть часа.
— Ответил лучше, но опять не хорошо. Ответил в сослагательном наклонении. А оно есть мысль, Крылов. Но плохая. Для народа лучшая мысль — её отсутствие. Скажу проще: жить надо односложно, а говорить точно. Ясно?
— Так точно. Ясно. Доедем через 30 минут.
— Вот видишь! — повернулся я к Власику. — Получается, времени у нас, начальник, много. Переходи ко мне, поработаем…
Мне не столько работать захотелось, сколько время убить. Хотя не мы убиваем время, а наоборот.
А убить его захотелось потому, что в последние годы меня стала раздражать жестокая нелепость: на перемещение в пространстве собственного тела уходит слишком много времени. И невозможно не только перемещаться из одного места в другое с быстротой мысли. Невозможно и быть в этих местах одновременно.
Невозможно пока. А в будущем будет возможно. В будущем люди научатся быть в разных местах одновременно. Как сказал Лаврентий, где бы кто ни находился, его можно будет заподозрить в злодеянии в любом месте.
Впрочем, я никогда не знал, где бы я хотел находиться ещё. Как не знал, куда я, собственно, всю жизнь спешил. Удивительно другое: когда не знаешь, куда спешишь, оказываешься не в том, а в другом месте, но я всегда оказывался там, куда, как потом выяснялось, следовало спешить. Бог, видимо, мне доверяет.
Ещё удивительнее другое: я давно уже перестал чему-либо удивляться. Например, — что человек в воде не растворяется.
Действительно, ни в чём ничего удивительного нет. Ничего другого в мире, — кроме того, что известно или неизвестно, — ничего другого быть в нём не может…
Власик — пока располагал себя на заднем сиденье — раздавил нечаянно коробку Казбека и стал извиняться.
Я умышленно прихватил в театр не «Герцоговину» или трубку, а «Казбек». Хотел показать, что не подражаю даже себе. И что у меня нет привычек. Кроме того, рисунок на Казбеке мне нравится больше. Тем более, что коробку можно начинить другими папиросами…
Как только я выкрутил вверх стеклянную перегородку, Крылов произнес какую-то фразу. Я не расслышал её, но махнул рукой — и колонна двинулась дальше.
Потом я стал искать в коробке уцелевшую папиросу, но не нашёл. Все оказались сплюснуты.
— Ты очень тяжёлый, Власик. Худеть надо.
— Я кушаю средне, но толстею.
— Кушать можно сколько угодно. Глотать пищу надо реже.
— Знаю, Ёсиф Высарьоныч.
— Но забываешь. Я тоже забыл — что делаю завтра.