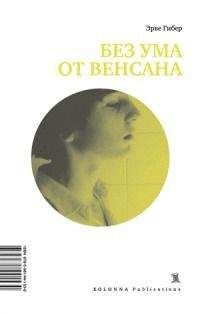И точно так же, как старался Мюзиль приглушить бесконечный звон своего имени, он хотел там, где это не касалось его творчества, обезличить и свое лицо, характерное, узнаваемое благодаря множеству портретов, которые газеты и журналы помещали вот уже добрый десяток лет. Когда ему случалось пригласить в ресторан кого-нибудь из многих своих друзей — их ряды значительно поредели в последние годы перед смертью, он сам услал их за горизонт дружбы, избавив себя от необходимости наносить визиты, ограничиваясь редкими письмами или телефонными звонками, — так вот, войдя в ресторан, он чуть ли не отталкивал друга, чье общество еще доставляло ему удовольствие, торопясь сесть спиной к залу или зеркалу, и только потом, спохватываясь, учтиво предлагал стул напротив своему спутнику. Посетителям ресторана оставалось созерцать наголо обритый, поблескивающий череп — некую «вещь в себе»: Мюзиль не ленился брить голову каждый день, и случалось, приходя, я замечал и засохшую уже кровь от пореза, который он не разглядел, и свежесть его дыхания, когда он двукратно целовал меня в щеки, быстро и звонко, и каждый раз я поражался его деликатности: он обязательно чистил зубы перед встречей. Вечера Мюзиль проводил чаще дома, в Париже ему мешала известность. Если он отправлялся в кино, все зрители на него оглядывались. Иногда по ночам я видел с балкона дом 203 по улице дю Бак, как он выходил из своей квартиры в черной кожаной куртке с цепочками и металлическими кольцами и пробирался внутренними переходами и лестницами дома 205 в подземный гараж, откуда уже выезжал на машине; он вел ее неловко, нервно, будто полуслепой, чуть ли не прижимаясь лицом к ветровому стеклу, мчался через весь город в бар «У Келлера», в XII округ, где подыскивал очередную жертву. В стенном шкафу квартиры, не подвергшейся посягательствам семьи Мюзиля благодаря его собственноручно написанному завещанию, Стефан нашел мешок с хлыстами, кожаными капюшонами, тонкими ремнями, кляпами и наручниками. Все эти приспособления, о существовании которых Стефан якобы не подозревал, похоже, вызвали у него приступ отвращения, словно отныне и они были мертвы, от них шел могильный холод. По совету брата Мюзиля Стефан продезинфицировал унаследованную им квартиру, прежде чем туда переселиться. Он не знал еще, что большая часть рукописей уничтожена. Мюзиль обожал чудовищные оргии в саунах, хотя, опасаясь своей известности, в парижские сауны не ходил, но вот в Сан-Франциско во время ежегодного семинара отводил душу; теперь большинство тамошних саун переоборудованы в супермаркеты или автостоянки. Там, в саунах, гомосексуалисты Сан-Франциско выделывали самые немыслимые вещи: вместо писсуаров ставили старые ванны и укладывали в них жертву на целую ночь, а тесные кузова разбитых грузовиков использовали как камеры пыток. Осенью 1983 года Мюзиль вернулся с сильным кашлем, приступы буквально доводили его до изнеможения. Но как только кашель отпускал, Мюзиль с наслаждением рассказывал о своих похождениях в саунах Сан-Франциско. Я тогда сказал ему: «Теперь из-за СПИДа в этих саунах, наверное, днем с огнем никого не сыщешь». — «Да ты что, — ответил он, — столько народу там еще никогда не собиралось, и стало удивительно хорошо. Нависшая над нами угроза теснее сплачивает, чувствуешь особую нежность, особую близость. Раньше многие молчали, сейчас не боятся вступать в разговор. Каждый понимает, почему пришел».
12
С секретарем Мюзиля я познакомился уже на похоронах, мы были там со Стефаном, а спустя несколько дней я встретил его в автобусе, и он мне кое-что рассказал. До сих пор неизвестно, знал Мюзиль или нет, от какой болезни умирает. Секретарь заверил меня, что по крайней мере в неизлечимости своей болезни он не сомневался. В 1983 году Мюзиль аккуратно посещал собрания гуманитарного общества в здании дерматологической клиники, руководитель которой входил в лигу врачей, рассылающую медицинскую помощь по всему миру — туда, где происходили экологические катастрофы или политические перевороты. В клинике изучали и первые случаи СПИДа, изучали его кожные проявления, называемые синдромом Капоши, — красные пятна с фиолетовыми прожилками, что появляются сначала на стопах, на ногах, а затем распространяются по всему телу и даже по лицу. На заседаниях, где обсуждалось положение Польши после государственного переворота, Мюзиль кашлял беспрерывно. Мы со Стефаном настаивали, чтобы он пошел к врачу, он отказался наотрез. И сдался только тогда, когда тот же совет дал ему руководитель клиники, удивившись его сухому, резкому, затяжному кашлю. Все утро Мюзиль провел в больнице на обследовании, он уже успел забыть, насколько чужим делается тело, попав в руки врачей, оно теряет индивидуальность и превращается в мешок костей, который врачи швыряют то так, то эдак, административная мясорубка перемалывает его, обращая в почти безымянное существо, зачеркивая всю жизнь, лишая его достоинства. В рот Мюзилю засунули узкую лампу и обследовали легкие. В результате шеф клиники быстро сообразил, с какой болезнью имеет дело, но решил оградить от неприятностей известного человека, своего собрата по заседаниям общества, не допустить, чтобы его имя связали с недавно обнаруженной болезнью. Подтасовывая и пряча часть анализов, он смог сберечь тайну и этим дал своему пациенту возможность спокойно работать и не страшиться никаких пересудов. Вопреки общепринятому правилу, он ничего не сообщил и Стефану, с которым был немного знаком, — пусть страшный призрак не омрачит их с Мюзилем дружбы. Но зато он предупредил секретаря, чтобы тот с предельной внимательностью исполнял все просьбы метра, помогал ему в осуществлении любых замыслов. В автобусном разговоре секретарь сказал мне, что встретился с руководителем дерматологической клиники вскоре после того, как тот в общих чертах познакомил Мюзиля с результатами обследования. Взгляд у Мюзиля, по словам дерматолога, — как я месяц назад узнал от секретаря, — стал еще острее и проницательнее, чем всегда, коротким взмахом руки он прервал его и спросил: «Сколько у меня времени?» Только это его интересовало, из-за работы, из-за книги. Сказал ли ему тогда врач, чем именно он болен? Не думаю. Может, Мюзиль и не дал ему ничего сказать. Годом раньше, когда мы обедали у него на кухне, я заговорил о взаимоотношениях врача и пациента и о правде — нужно ли говорить больному правду, если недуг его смертелен. Я боялся тогда, что у меня рак печени, последствие недолеченного гепатита. И Мюзиль сказал мне: «Врач никогда не выложит пациенту всю правду, но предоставит ему возможность в свободной беседе узнать ее самому или же уклониться от нее, если для пациента второй вариант предпочтительнее». Шеф клиники прописал Мюзилю антибиотики в лошадиных дозах, чтобы приостановить кашель и отсрочить фатальный исход. Мюзиль продолжал работать над своей книгой и решил даже прочесть цикл лекций, который поначалу намеревался отложить. Ни мне, ни Стефану он ничего не сказал о своем разговоре с дерматологом. Только однажды сообщил, как бы прощупывая меня, что принял решение отправиться вместе с коллегами из своего общества в дальнюю экспедицию, опасную, и дал мне понять — он может оттуда и не вернуться. По глазам Мюзиля я видел: он просит совета и окончательного решения еще не принял. Он хотел отправиться на край света и там отыскать ту маленькую дверцу, что спрятана за картиной в том идеальном санатории для обреченных, я испугался и, пытаясь изо всех сил скрыть испуг, с беззаботным видом заявил: мне кажется, ему лучше закончить книгу. Книгу, которой нет конца.
13
Когда мы познакомились, он уже писал свою «Историю человеческого поведения», было это, наверное, в начале 1977 года, ведь первая моя книга «Смерть манит за собой» появилась, кажется, в январе; мне повезло, благодаря ее выходу в свет я и оказался в тесном кружке его друзей. Первый том монументальной «Истории» был уже готов, но случилось так, что введение к нему разрослось и стало само по себе целой книгой; публикация первого тома, который внезапно сделался вторым, отодвинулась, — практически он уже был в типографии, и тут на горизонте, словно хвостатая комета, возникло введение и сыграло с Мюзилем по весне 1976 года первоапрельскую шутку. Тогда я еще не знал его лично, он был для меня загадочным и знаменитым соседом, чьих книг я пока не читал. Введение разрослось, поскольку Мюзиль развил в нем свою фундаментальную теорию цензуры, бросающую вызов общепринятой, и когда оно отдельным изданием вышло в свет, Мюзиль в первый и последний раз в жизни согласился принять участие в телепередаче «Апострофы», обзоре интеллектуальных событий. В те времена я не интересовался этим детищем Кристины Окран, любимой ведущей Мюзиля — любимой настолько, что впоследствии, придя к нему на ужин чуть раньше назначенного срока, я должен был кружить по соседним улицам, чтобы не прерывать их телесвидания, которое кончалось ровно в 20 часов 30 минут. Эти-то кадры из «Апострофов» — Мюзиль не пропустил бы их ни за что на свете — и передали в день его смерти, июньским вечером 1984 года. Кристина Окран — Мюзиль ласково называл ее «мое солнышко» и «мое солнце» — сняла, собственно, его заразительный безудержный смех. Во время передачи от облаченного в строгий костюм Мюзиля ожидали пасторской серьезности в изложении незыблемых основ человеческого поведения, под которые он уже подвел мину своей «Историей», — а он попросту расхохотался, и его смех отогрел меня, заледеневшего, нашедшего в день его смерти прибежище у Жюля и Берты: я на секунду включил телевизор, чтобы узнать, какой некролог дадут в новостях. Так я в последний раз видел Мюзиля на экране, с тех пор никогда не смотрел записи передач с его участием, было бы мучительно оказаться лицом к лицу с псевдоживым подобием Мюзиля, только во сне меня это не страшило, но его смех — остановленное в «Апострофах» мгновение — поразил меня в самое сердце, я заворожен им по-прежнему, иногда я ощущаю укол ревности: как он мог так счастливо, беззаботно, божественно смеяться, ведь мы еще не были знакомы? Своей «Историей» он разгромил общепринятые основы сексуальной гармонии и принялся подрывать ответвления собственноручно построенного лабиринта. На обложке первого тома, поскольку второй был завершен, а необходимые материалы для следующих четырех уже лежали у Мюзиля на столе, он поместил все шесть названий сразу. Но начертив план будущего здания и на треть построив его, рассчитав опорные конструкции, своды, разметив навесы и переходы в соответствии с разработанной в прежних книгах системой, которая принесла ему мировую славу, Мюзиль вдруг впал в тоску или, вернее, его обуяли страшные сомнения. Строительство было прекращено, чертежи уничтожены, фундаментальная «История», заранее продуманная — по законам его диалектики, до мелочей, — брошена на полдороге. Поначалу ему хотелось передвинуть второй том в конец или отложить его и ринуться в атаку совсем с другой стороны, обнажить исходные позиции своего исследования, проложить новые пути. Свернув на скользкую тропу, уклонившись от первоначального замысла, он понял: коротенькие примечания разрастаются в отдельные самостоятельные книги — и заплутал, растерялся, стал все рушить, забросил, потом снова строил, восстанавливал, пока не докатился до полнейшей бездеятельности — этому лишь способствовало зудящее отсутствие публикаций, злые слухи о том, что он исписался, впал в слабоумие, способствовала боязнь ошибиться или зайти в тупик; в то же время им уже завладела мечта о книге, которая не будет иметь конца, она охватит все проблемы сразу и оборвать ее сможет разве что смерть или полное бессилие, мечта о самом мощном и самом хрупком творении, о чудо-книге, балансирующей на краю бездны — от поворота мысли, от вспышки внутреннего огня, о некоей Библии, обреченной на адовы муки. Уверенность в близком конце убила эту мечту. Мюзиль положил себе за оставшееся время заново перестроить и продвинуть вперед свой прежний фундаментальный труд. Весной 1983 года они со Стефаном отправились в Андалусию. Я удивился, что номера Мюзиль заказал в третьеразрядном отеле, он экономил, а после его смерти обнаружилась пачка банковских чеков на несколько миллионов, он так и не удосужился отнести их в свой банк. Мюзиль в самом деле боялся роскоши. Но его покоробила скаредность матери, которая отдала ему лишь выщербленные кружки для нового загородного домика, где он мечтал вместе с нами поработать летом. Накануне отъезда в Андалусию он пригласил меня к себе и, указав на две объемистые, туго набитые папки на письменном столе, торжественно произнес: «Вот моя рукопись, если со мною во время путешествия что-нибудь случится, ты придешь сюда и ее уничтожишь. Я могу доверить это только тебе и полагаюсь на твое слово». Я ответил, что исполнить подобной просьбы не смогу и прошу меня избавить от испытания. Мюзиль не ожидал такого ответа, был им очень огорчен и подавлен. Окончил он работу много месяцев спустя, успев еще раз переписать все заново. Когда Мюзиль рухнул без чувств у себя на кухне и Стефан нашел его бездыханным в луже крови, обе папки давно лежали в издательстве, но Мюзиль все еще ездил по утрам в библиотеку «Шоссуар» и выверял постраничные сноски.