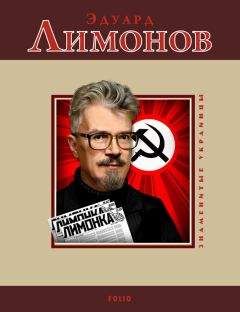Растолкав экс-режиссера, писатель убедил его в необходимости переместиться в спальню. Режиссер ушел, бормоча, что они могут, если хотят, лечь в его кровать, а он… Он свалился в спальне на предложенное им ложе и тотчас уснул, не раздеваясь.
Повозившись, пара устроилась на узком диванчике очень неудобным образом, так что одна нога писателя, лежащего на боку, оказалась под крупом Наташки, другая где-то в районе раздвоения ее ног. Наташкины ноги, высоко согнутые в коленях, возвышались над диваном и парой. Они погрузились в нежный, неудобный сон, как вновь обретшие друг друга брат и сестра. Он, во всяком случае, боялся пошевелиться. Она множество раз раскрывала глаза и глядела на него проверяюще: не смеется ли над ней писатель? Всякий раз глаза смягчались, недоверие исчезало, глаза мягко закрывались. Ни он, ни она не сделали ни единого движения в сторону секса. Почему-то было ясно, что секс все упростит и испортит, вульгаризирует, снизит. Несколько раз у писателя произвольно, без его ведома, вдруг твердел член, но он не последовал туда, куда тянул его член, — а именно, между ног вдруг уставшей и слегка сопящей девушки, откуда тянуло горячим. Сказать, что писатель представлял женщину, переплевшуюся с его телом, как некоего ангела, «гения чистой красоты», девушку чистую и незапятнанную, было бы отвратительной ложью. Писатель, заметивший особое, «плотское», стеснение Наташки во время ее короткой беседы с животастым колбасником и проанализировавший лицо животастого в этот момент, скорее был склонен преувеличивать развратность певицы и думал о ней как о женщине легкодоступной. Но социальная репутация женщины никогда не останавливала его — в отличие от большинства мужчин — в его симпатиях и влюбленностях. Даже более того, ему исключительно всегда и нравились женщины с очень плохой репутацией. Вот он лежал с женщиной с дурной репутацией и думал: «А вот не буду тебя ебать! Ты ведь привыкла, что все хотят от тебя именно этого: Наташа, дай! А я вот не стану. Назло тебе, или чтобы удивить тебя».
Он давно знал, что женщины бывают растеряны и уязвлены, если мужчина не домогается от них секса.
Позднее Наташка говорила ему:
— Первый раз в жизни я уснула тогда с незнакомым мужчиной, — с тобой.
Ох, прожив на свете сорок лет, он, разумеется, не верил в женские «первые разы». «Первый раз в жизни я взяла в рот мужской член, твой член, дорогой!» Или: «Я никогда до этого не позволяла трахать себя в попку. Только тебе я доверила эту часть тела, дорогой!»
Почему они так слепо верят, что приятно быть первым. Писатель терпеть не мог девственниц. Не говоря уже о нежелании выполнять грязную работу дефлорирования, неумелость и часто полная бесчувственность девственниц, считал он, делает их неуклюжими и неинтересными партнершами. Много возни — мало толку. Писатель предпочитал женщин, знающих член и любящих его.
И Наташке он не поверил. Комплиментов в свой адрес он не любил, тем более что в данном случае комплимент звучал двусмысленно. Женщина уснула с тобой, что же ты за мужчина! Как бы там ни было, случилось, что первую ночь они провели на узком диванчике, прижавшись друг к другу, и если она спала, как она впоследствии утверждала, то он не спал ни минуты. Он думал о том, что если бы тогда Галка не сделала аборт, то у него был бы такого же возраста ребенок. Может быть, дочь. Ну на несколько лет младше. Глядя на ее ухо и губы, большие и яркие, он рассуждал: «Вот спит девочка. Каждому человеку нужен другой человек. Хоть один. Долго ты жил, серый волк, в одиночестве, насмехаясь над всеми и никого не любя. Может быть, пришло время взять в дом девчонку, чтобы спать с ней вместе?»
Утром им было весело. Скорее всего таким образом влиял на них алкоголь, поглощенный ночью, и грустное отчаяние, навеянное фильмом «Найт портер». Они были истерически веселы. (А может быть, подсознательно они были рады, что встретились в океане жизни?) Похмелившись с экс-режиссером, они отправились в старом ее мерседесе» в редакцию эмигрантской газеты и стали ждать, когда освободится редактор, чтобы отвезти их на свою холостяцкую квартиру. Гостеприимный редактор отдавал квартиру в распоряжение писателя. Коллектив эмигрантской газеты, состоявший из вполне милых людей разного роста и возраста, радушно приветствовал русского писателя. Невозможно было понять, впрочем, действительно ли они рады его видеть или к подобной радости их обязывает то обстоятельство, что редактор (он же и владелец газеты) благоволит к странному типу. Писатель, однако, воспринимал мир таким, каким видел его, и не искал открытых мотивов.
На двух машинах — Наташка с писателем на тронутом ржавчиной «мерседесе», редактор на ярко-красном «олдсмобиле» величиной с парикмахерский салон — они прибыли на Детройт-стрит и осмотрели квартиру. Оказалось, писатель уже останавливался в ней пару лет назад. Выдав писателю ключи, извинившись по отдельности за протекающий кран с горячей водой в кухне и протекающий кран с холодной водой в ванной, редактор, похожий на Ал Пачино, удалился, оставив мужчину и женщину наедине. Отступать было некуда, нужно было идти в постель.
Каждый из них проделал это много тысяч раз, однако они стеснялись именно друг друга. Отлично натренированные, внешне они ничем не проявили своего смущения и проделали все операции как следует. Они раздели друг друга, целовались, гладили… но тела их как бы оказались закутанными в прозрачный пластик, и прикосновения не вызывали чувств. Странно неглубокий сексуальный акт их продолжался долго и ничем не кончился. Ни мужчина, ни женщина не получили оргазма. Скрипели пружины железной койки (складная, она хитроумно убиралась в кладовую комнату), раздавались нужные вздохи и стоны, но никто ничего не чувствовал.
Нужно было кого-то обвинить. Вначале писатель обвинил во всем себя. Однако, поразмыслив, снял с себя часть вины и назвал причиной простуду. Выскочив в октябрьский Нью-Йорк в летнем пиджачке без прокладки, он простудился и привез к Тихому океану кашель, боли в груди и температуру. Она? Если она и была виновата, то меньше, чем писатель, ибо самец, как известно, задает тон, ритм, или, если хотите, температуру сексу. Уже от того, каким образом мужчина берется за женщину, зависит ее ответ. Наташка, без сомнения, стеснялась любимого поэта. За истекшие сутки выяснилось, что он — любимый поэт Наташки. Поняв, что она даже знает некоторые его стихотворения наизусть, писатель приуныл. Это означало, что ему придется соперничать с его собственным, выдуманным ею образом. Биться с могущественной тенью.
Так как целью приезда писателя в Лос-Анджелес были не встречи с друзьями и опыты секса с русской девушкой Наташей, но чтение лекций в полдюжине университетов Калифорнии, следовало выполнять взятые на себя обязательства. И заработать деньги, которые он планировал заработать. Первый университет штата Калифорния, в котором ему предстояло разглагольствовать, был расположен в полутора часах от Лос-Анджелеса. Писатель потребовал, чтобы девушка поехала с ним. Может быть, он собирался восстановить свою мужскую честь в маленьком кампусе университета и без восстановления чести не хотел отпускать ее?
Тогда он еще не знал, что она может быть очень раздражительной. Теперь, вспоминая эти взгляды (время от времени Наташа обливала ими писателя как холодным душем), писатель ясно понимает, до какой степени ей тогда не хотелось сидеть за рулем подержанного «мерседеса». «И зачем я пустилась в эту авантюру? — может быть, думала она. — Теперь я должна работать шофером, возить его по Калифорнии».
Сама этого не сознавая, Наташка была избалована мужчинами и, хотя прекрасно водила автомобиль, предпочитала разваливаться на кресле рядом с шофером, доверив самцу перевозку своего драгоценного тела по сети лос-анджелесских дорог, обвивающих тело города таким же причудливым образом, как когда-то портупеи обвивали корпус папы писателя — офицера Советской Армии. Плюс, Наташка боялась полиции. Несколько месяцев назад ее арестовали за вождение «мерседеса» в пьяном виде и отобрали права. (Приговоренная к принудительному посещению занятий организации «Алкоголик анонимус», она встретила в кулуарах этой организации множество представителей голливудской киноиндустрии. Пьяные актеры и актрисы плотно населяли хайвэи этого района города.)
Они доехали наконец. Писатель прочел лекцию о самом себе, и университет заснял его лекцию на видеокассету. Впоследствии писателю пришлось увидеть себя, синелицего, бодро разевающего рот за двести долларов. После лекции, по традиции университетов всего мира, состоялось парти в доме пригласившей писателя профессорши — главы департмента. Профессорша, гордящаяся дружбой с полдюжиной знаменитых русских писателей (равно эмигрировавших и советских), гордилась и своей прогрессивностью. Поскольку наш писатель был новой восходящей звездой литературы, мнения академической общественности департментов славянских литератур Соединенных Штатов по его поводу разделились. Непрогрессивное, как всегда, большинство считало писателя порнографом, а прогрессивное меньшинство (и эта профессорша среди немногих!) считало его обновителем языка, новатором, как бы юным «клинингмен», пришедшим в запущенную комнату русской литературы, чтобы сорвать паутину в углах, открыть окна и впустить свет и несвежий уличный воздух.