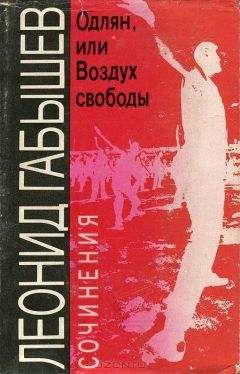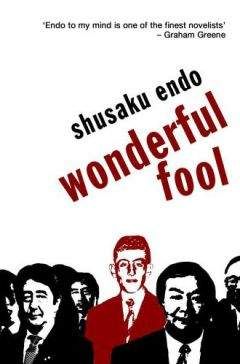Я сжался под одеялом, заткнул уши, и у меня от потрясения начался приступ. В голове завыли волки, загудели, забухали колокола, в глазах заплясали желтые круги, и я отключился.
Очнулся ночью. В палате — тихо. Несчастный, получивший чудовищную порцию смирительного, все так же лежал со связанными за спиной руками и с заголенной задницей, глухо, как в бреду, повторяя:
— Негодяи… мерзавцы… фашисты… гады…
Глаза его были закрыты. Изо рта текла слюна. Борис дремал на диване. Ему надоело слушать проклятия, и он подошел к бредившему. Взяв за волосы, задрал голову вверх и, глядя в замутненные глаза, стал назидательно говорить:
— Ну что, дружок, понял теперь, куда попал? Заруби себе на носу: сюда здоровые не попадают и выходят с клеймом — не сотрешь за всю жизнь. Так что молчи в тряпочку. А будешь на персонал хер дрочить — вообще не выйдешь! Или вынесут ногами вперед. Так что отдыхай, орелик!
Бросив голову бредящего и едва ли соображающего парня на подушку, развязал ему руки, натянул на задницу штаны.
Непривычная обстановка действовала на меня угнетающе. Я лежал с открытыми глазами, слушая хрюканье, бульканье, жалобное всхлипывание спящей палаты, и соображал — куда попал?
Захотелось в туалет.
У выхода, не переступая роковой черты, спросил разрешения у дремлющего на диване санитара Вовки.
— Давай, — буркнул потревоженный цербер.
Проходя мимо процедурки, увидел там санитара Борьку. У него на коленях сидела Ленок.
Вернулся в палату. Не спалось. Из процедурки доносились грубый голос санитара и женское воркование.
— Да… да… да., конечно… — чирикала Ленок.
— Бу… бу… бу… — басил Борис.
Стихло. Послышалась возня. Все завершилось глубоким умирающим стоном.
Борис возвратился.
— Давай, — кивнул он напарнику в сторону процедурки и грузно плюхнулся на диван.
Все повторилось. Опять возня и опять стон ненасытной стервы.
Утром Черная Скамья, расхаживая между кроватями, вновь затянул:
— А на черной скамье, на скамье подсудимых…
Кашлянье, харканье, зевание проснувшейся палаты.
Хлопанье дверей. Звяканье склянок в процедурке. Разноголосица новой смены.
— Так, пить лекарство! — Посвежевшая за ночь Ленок подкатила к наблюдательной столик, уставленный капроновыми стаканчиками с водой и горками разноцветных таблеток.
Обитатели палаты поочередно подходили и глотали пилюли. Санитар Борька наблюдал.
Черная Скамья, высыпав в рот горсть разноцветных колес, хотел отойти, но Борька, шагнув к нему, громко сказал:
— Открой рот!
Черная Скамья — так я окрестил Вергазы — злобно сверкнул глазами. Взяв в руки его узкое, хориное лицо, санитар надавил пальцами-сардельками на щеки. Открылась гнилая пасть убийцы. Из-под нечистого языка вывалились таблетки.
— У, гнида! — Борис наотмашь рубанул ребром ладони по худой кадыкастой шее.
Голова симулянта дернулась и вместе в хилым телом отлетела в угол.
Вскоре Борис повел группу дураков в туалет. Игорь, парализованный сульфозином, скакал на одной ноге, держась рукой за стену. Санитар Вовка отлучился в процедурку. Его позвала медсестра. На минутку наблюдательная осталась без присмотра. Вергазы тигром метнулся со своей койки. Воровато позыркав по сторонам, стал выламывать из кровати наказанного парня металлический прут. Прут был слегка согнут и болтался в гнездах. Выломав стал метаться по палате — куда спрятать? — и, пришлепывая прутом по ладони, злобно шипел:
— Уработаю гада, завалю, что угол дома…
Он имел в виду обидчика-санитара.
В коридоре послышались шаги. Понурое стадо плелось за Борисом. Он тащил изувеченного уколом. Вергазы сунул прут под матрац казненного сульфозином. Метнувшись на свою кровать, затаился, изображая спящего.
Санитар свалил Игоря на койку и посмотрел на грядушку. Она скалилась свежей щербиной.
— Эт-то что за херня? Кто выломал?! Ты, что ли?! — спросил он Игоря, готовый его растерзать.
— Не-е-е, — с дрожью в голосе протянул тот. Глаза его налились страхом. — Не я…
— А ну, встань!
Игорь, скрюченный, встал, а санитар, подняв угол матраца, увидел на сетке кривой железный прут.
— Это не я! — вскинулся отчаянный голос.
— Ах ты, гнида! Убить меня хотел, сволочь! — взревел Борис, не слушая протестующих, умоляющих криков.
— Это не я! Не я! Пожалуйста, не колите меня! Правду вам говорю — не я!
Но тщетно. Уже спешила, предвкушая удовольствие, Ленок с большим шприцем. Уже Вовка стянул штаны с приговоренного и держал его мертвой хваткой за ноги. Уже Борис зажал своей железной клешней худую шею парня и мстительно вминал лицо в подушку. Парень судорожно сгребал руками одеяло и протестующе мычал. За происходящим с интересом наблюдала столпившаяся в дверях новая смена.
Ленок повторила любимую процедуру, но в левую ягодицу. Мычание взметнулось до визга. Затрепыхалось в судороге тело. Быстро-быстро захлопали по кровати руки невинной жертвы, как-то пытаясь заглушить чудовищную боль. Борис отпустил шею.
— Ма-а-ма… мам-м-мочка… мама…
На облитое слезами, перекошенное от боли лицо тяжело было смотреть. Гребя руками, Игорь скатился с кровати и, сверкая голой задницей, пополз к выходу из палаты.
— Мам-ма, мам-мочка, зачем ты меня сюда… мам-ма… — бился он головой об пол.
— Я тебе дам мамочку, сволочь! — бухтел с дивана Борис. Ему такие концерты были не в диковину. — Чуть зазевайся — голову бы проломил. Сука!
— Ну ладно, ладно. Будет тебе. Сам виноват. Что уж ты, — сказал Петрович — спокойный, много повидавший на своем веку санитар. — Давай, Олег помоги…
Олег — тоже дежурный санитар. Он работал в паре с Петровичем. Интеллигентного вида, лет двадцати, студент медицинского, направленный на практику в дурдом.
Вдвоем они положили бедолагу на койку.
В столовой подсел к Угрюмой Личности. Рядом сидел похожий на уголовника молчун Леший. Они лениво хлебали больничное варево. Стук ложек. Звяканье кружек. Обиженное богом стадо метало, хлебало, сопело, чавкало, лило на пол и на больничные пижамы.
К нашему столу подошел начинающий педераст Толька Алиночкин, или Тонька, или Восьмиклиночка, как все его звали. Взяв за спинку раскладной алюминиевый стул, выдвинул его, намереваясь сесть. Не отрываясь от трапезы, Леший зацепил ногой ножку стула и с грохотом задвинул обратно. Тонька все понял и пошел искать другое место. Нашел у Читы. Чита, отбросив ложку, швырнул первое через край. В миске была мутная жижа, в ней плавали листики ржавой капусты и редкие дробинки перловой крупы.
— Давай, второе наложу. — Баба Дуня из обслуги хотела взять у Читы алюминиевую миску.
— М-м-м… — замычал дебил, прижимая ее к груди.
— Да давай, второе наложу… Господи! — Баба Дуня вырвала из рук мычащего Читы миску и плюхнула черпак гнилой толченой картошки и ложку тушеной капусты.
На третье — слабенький чаек.
Перед сном палата наглоталась таблеток и вовсю пускала пузыри. Мне лечение еще не назначили и спать не хотелось. В углу шуршал деланной феклой[3] приблатненный малый, поступивший в наблюдательную утром, но уже освоившийся в непривычной обстановке.
— Фрайера замочил, — распрягался липовый бла-та-та. — Зацепил копытом по кишке и вырубил. Лежачего ногами подровнял. А тут мусора. Я когти рвать… Бесполезняк. Нагнали, повязали… Фрайер в больничке откинул копыта. Большой срок горел. А мне на киче не в кайф париться… ну и прикинулся дураком… в натуре…
— Ты и есть дурак, — оборвал щенячий визг Угрюмая Личность. — Я крутую горку поломал, — продолжал он, — пятнадцать пасок в совокупности. И по мне лучше каша-сечка и на нары, чем больничная решка. Судимость спишешь, клеймо шизика не сотрешь. Будешь теперь, карась, всю жизнь на кукане сидеть. Как социально опасный в психдиспансере отмечаться. А чуть что — сюда. Сульфозин в сраку — и полный атас, — резюмировал пахан и снова угрюмо замолчал. Заткнулся и обескураженный бла-та-та.
Скрипнула кровать. Из-под одеяла змеей выполз Черная Скамья; подойдя к Чите, достал из трусов елду. Чита лежал на боку с открытыми глазами.
— Чита, возьми… возьми… — зашептал вонючий хорек, поднеся ко рту бессмысленно хлопающего глазами олигофрена елду. — Это колбаса… вкусно… бери, — мазал он вялым членом Читу по губам.
— Вергазы! — рассерженный голос Петровича с дивана. — Ляжь щас же, свинья, пока не прификсировал!
Страдалец нырнул под одеяло и затих.
Проснулся малыш-эпилептик.
— Дядь Жень, можно в туалет?
— Давай, Васек… А ты куда?! — осадил санитар метнувшегося за пацаном Черную Скамью.
— Петрович… тоже надо… как из ружья… не могу терпеть…
— Лежи, свинтус ты эдакий! Перетерпишь! Вот пойдет Тонька — и ты следом…