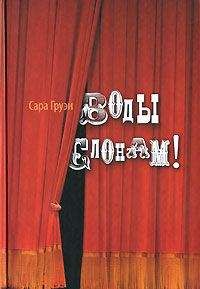Эвелин вновь кивает. Перешагивает порог кабинета и стоит у двери, глядя на свои туфли.
— Короче, — продолжаю я, — я не могу прямо так сразу вспомнить контрактного редактора, хорошо знакомого с принципами нашего стиля. Я вряд ли сумею заняться им в ближайшие три недели, да и то он должен для начала поставить материал в расписание, не то снова все окажется забито. Я не…
— Я переговорю с ним, — перебивает Эвелин. — Слушай, Аннемари, у меня есть к тебе разговор. Не могла бы ты минут через пять заглянуть ко мне в кабинет?
Я медлю. Я правда очень занята, но она — босс.
— Ну да, конечно, — говорю я. — Подойду.
У нее в кабинете я сразу понимаю — что-то произошло. Эвелин стоит у своего стола, а за ним восседает некто в костюме.
— В чем дело? — спрашиваю я, встревоженно поглядывая на обоих.
— Привет, Аннемари, — говорит Эвелин.
Она обходит меня и закрывает дверь за моей спиной.
— Спасибо, что заглянула. Присядь, пожалуйста.
Эвелин извлекает откуда-то обтянутую тканью коробку. Я сажусь, и она ставит ее передо мной.
— Да в чем же дело, наконец?
Она тоже садится и смотрит мне прямо в глаза.
— Полагаю, ты знаешь, — говорит она, — что последние два квартала наша компания еле сводит концы с концами…
Боже праведный. Так вот оно. Меня увольняют.
— Мы надеялись, что положение выправится, но вышестоящее руководство распорядилось о сокращении штатов, и… мне очень жаль, но сохранить за тобой рабочее место не удастся.
— Что?.. — говорю я.
Хотя я все расслышала и поняла. Но должна же я что-то сказать. Я выпячиваю губу. Может, она думает, я разревусь? Придется ее очень здорово разочаровать…
— Поверь, дело не в том, как ты справляешься со своими обязанностями. Я знаю, насколько твоя работа помогла повысить качество нашей документации…
Да уж, этого не отнимешь. Девятнадцать проектов, двадцать два автора, и все в моем отделе. Состоящем из меня и двух редакторов. Благодаря нам — по сути, благодаря мне — все всегда вылизано до последней буквы. Вылизано, выверено, откорректировано. Зря ли я постоянно таскала домой черновики…
— У вы, документацию, сопровождающую программное обеспечение, редко кто ценит по достоинству…
И так далее в том же духе. Запись в моем послужном списке будет гласить, что меня не выгнали, а сократили. И конечно, я могу рассчитывать на нее в смысле рекомендации. Опять же, никто не выкидывает меня из здания прямо сейчас, но вообще-то вот он, твой контейнер с бумагами. Омар поможет тебе донести все до машины, или, если хочешь, в твоем кабинете приберется компьютерная служба. Ну и прочие блага вроде выходного пособия с учетом долгой работы в компании, если потребуется — любая консультация… и прочая чепуха, которую я не могу воспроизвести, поскольку в какой-то момент перестала слушать.
* * *
А вот вторая костяшка.
Я открываю дверь своего дома и вижу в прихожей Еву. Она вздрагивает, заметив меня. Может, оттого, что полоска голого тела между топом и поясом сегодня шире обычной.
— Ой, мам, привет, — говорит она.
И, вновь напуская на себя независимый вид, хватает с вешалки курточку.
— А ты рано сегодня!
Я опускаю сумочку на пол и прикрываю дверь.
— Планы переменились, — говорю я. — А ты куда собралась?
— К Лэйси.
К Лэйси? Ради бога, и о чем только ее родители думают?
— Ужинать вернешься? — спрашиваю я.
Стряхиваю легкие мокасины от Амалфи. Цепляю их пальцами ноги и укладываю на обувную полку по одному.
— Не, я на всю ночь, — говорит Ева.
И убегает, сверкнув розовым рюкзачком на плече. Я улавливаю запах сигаретного дыма, но воздерживаюсь от комментариев. Пятнадцать лет — возраст нелегкий, надо очень хорошо думать, прежде чем устраивать выволочку. Последний раз мы сцепились из-за кобальтово-синего пирсинга в языке — я вынудила снять его. Тут я встала насмерть — либо пирсинг, либо верховая езда. Она назвала это шантажом, но пирсинг исчез. Ей еще предстоит меня за это простить.
— Ну тогда пока, — говорю я, обращаясь к закрывающейся двери.
Та вновь приоткрывается.
— Пока, мам, — говорит Ева сквозь щелку.
Добравшись до кухни, я обнаруживаю на столе запечатанный конверт из плотной коричневатой бумаги. Меня тотчас охватывает нехорошее предчувствие.
Это из школы прислали табель успеваемости. Я изучаю его сверху донизу, потом переворачиваю, не веря глазам. Не знаю даже, на кого больше сердиться, на Еву или на школу. Посещаемость у нее, оказывается, была отвратная. И как результат — благополучно заваленные экзамены.
Я снова беру в руки конверт и замечаю, что в нем есть что-то еще. Я переворачиваю его и вытряхиваю. На пол вываливается конверт поменьше, на этот раз белый.
В нем — записка от директора школы. Подпись неразборчива, почерк с обратным наклоном, но не в том суть. Доктор философии Харольд Стоддард уведомляет меня, что, если Ева еще раз прогуляет школу, не представив должного объяснения, ее исключат насовсем. Внизу — место для росписи в получении.
Я держу бумагу в руке и глупо моргаю. А как прикажете реагировать?
Я до того расстроена, что меня начинает трясти. Господи, ну почему они раньше-то не сказали? Пока я еще могла что-нибудь предпринять?.. А сейчас, если даже удастся предотвратить ее исключение, лучшее, на что можно надеяться, — это что она проскочит едва ли с третью зачетов.
Я сую письмо обратно в конверт, торопясь и сминая бумагу. Я не собираюсь его подписывать. Оно похоже на сообщения на экране, которые появляются перед очередным крахом системы: такая-то программа обнаружила неустранимую ошибку, работу твою спасти невозможно, а теперь будь хорошей девочкой и нажми «OK». О’кей? А вот фиг вам, никакой не о’кей!
Я подумываю, не позвонить ли Роджеру на работу, но потом решаю подождать, пока он приедет домой. Тогда и поиграем в «камень, ножницы, бумагу», разбираясь, кто позвонит Еве и срочно вытребует ее под домашний арест.
Я наливаю себе вина и отправляюсь отмокать в ванну. Делать особо нечего, а я этого не люблю. Но ничего не попишешь, в доме чисто, а работы — по более чем объективным причинам — сегодня я с собой не взяла. Даже газеты под рукой нет, чтобы начать подыскивать новое место. Я смогу этим заняться только завтра.
Когда появляется Роджер, я сижу в гостиной, поджав под себя ноги. Просматриваю старый «Ньюйоркер» — журналы у нас скопились чуть не за год, все нечитаные — и попиваю кофе. Двух стаканов вина «Гевурцтраминер» мне хватило.
— Боже, как я рада тебя видеть, — говорю я.
И это сущая правда. В последнее время мы мало виделись, а мне сейчас так нужна поддержка, так нужно с кем-то поговорить.
— Налей вина, тебе не помешает глоточек…
Он подсаживается ко мне на диван. Без стакана, но зато в уличной куртке.
Что-то определенно не так. И дело не в уличной куртке и не в отсутствии стакана. Он никогда ко мне не подсаживался. Он всегда устраивался напротив. Я отрываю взгляд от «Ньюйоркера», вновь исполнившись дурного предчувствия. Кто-то умер — я точно знаю.
Он берет мою руку в свои. Ладони у него холодные и влажные. Я борюсь с желанием отнять руку и немедленно вытереть. Я вижу, он очень расстроен.
— Аннемари… — начинает он придушенным голосом, словно у него язык к гортани приклеивается.
Господи, похоже, я не ошиблась. Я не припоминаю, чтобы кто-то болел. Несчастный случай?..
— Что такое? — спрашиваю я. — Что случилось?
Он смотрит на наши соединенные руки, потом снова мне в глаза.
— Даже не знаю, как тебе сказать…
— Сказать — о чем?
Его губы движутся, но он не произносит ни звука.
— Бога ради, Роджер, да говори уже!
Я отбрасываю журнал и накрываю рукой наши переплетенные пальцы.
Он вновь опускает взгляд, и на меня смотрит лишь небольшая лысина у него на макушке. Наконец он поднимает голову, на лице — отчаянная решимость.
— Я ухожу.
— В каком смысле уходишь?
— Я решил жить с Соней.
Вылетевшие слова витают в воздухе, но мои уши отказываются впускать их в себя. Ну, примерно так. Я отдергиваю руки.
— Прости меня, — продолжает он.
Зажимает руки между коленями и смотрит на них так, словно впервые увидел.
— Я не хотел причинять тебе боль. Никто из нас не ожидал, что этим все кончится…
— Соня? — говорю я. — Та доктор-интерн?
Он кивает.
Я таращусь на него. Он продолжает что-то говорить про то, как ему жаль, он несет всякую чепуху, но я думаю о другом. Я вспоминаю рождественскую вечеринку, где я единственный раз видела Соню. Помнится, я обратила внимание на ее блестящие каштановые волосы, пышную грудь, тонкую талию, затянутую в алое платье с блестками.
— Погоди, — прерываю я его нескончаемый монолог. — Ей же никак не больше… лет двадцати восьми?