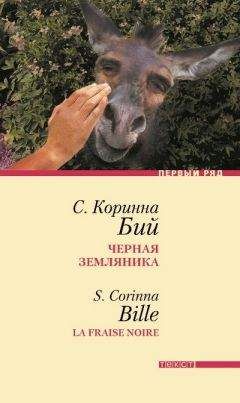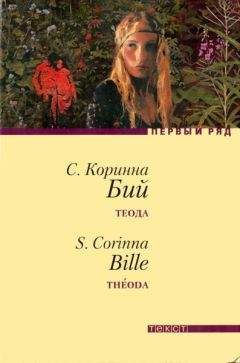И вот она на кладбище. Уж не совершила ли она все это путешествие ради того, чтобы очутиться тут, среди могил? Она ходит по дорожкам, читает имена, которые все кончаются одною из трех букв — «а», «и» или «о».
— Аио… — напевает она. Но ей себя жалко.
К ее чувству счастья по-прежнему примешивается смутная тоска. На каждом надгробии лежит венок из еловых ветвей, переплетенных с искусственными рождественскими розами. «Белые и чуточку розоватые, как живые». Еще там стоят свечи, некоторые даже горят. «Значит, и у мертвецов нынче праздник». Ей хочется остаться среди них. Она вырывает сорняки и, с помощью сухой веточки, переносит огонь от горящих свеч к незажженным. Язычок пламени стоит прямо, неколебимо — высокая кладбищенская ограда не пропускает ветра. Как ей хотелось бы остаться здесь навсегда! Присев на ступени часовенки из охряно-желтого кирпича, она отдыхает. И думает: «Мне бы нужно подыскать себе комнату».
Снова она перешла железнодорожные пути, и опять вспыхнули красные огни, и опять послышалась дребезжащая музыка колес. Но утреннее путешествие уже напрочь изгладилось из ее памяти. Она вернулась на деревенскую площадь. Мальчишка-продавец кидается к ней и сует марки Pro Juventute.[15]
— Только не все! — протестует она.
На марках тоже красуется роза, а внизу цена — сорок сантимов. Кому же ей писать? «Я больше никого не люблю». Когда она нагибается, чтобы отдать мальчику деньги, он испуганно отшатывается. «Из-за моего дыхания… Слишком много я пила и танцевала последние ночи».
Спрятав марки в сумку, она идет дальше, опять блуждает по улочкам. «Вот теперь я могу навестить Тицио» (она избегает визитов в обеденные часы). Петушиный крик заставляет ее вздрогнуть. «Мои утренние пробуждения в детстве…» Она давно отвыкла от всего этого.
Ржавая, утонувшая в зелени решетка скрипит, когда она отворяет ее. Она идет по узенькой дорожке между жасминовыми кустами, сплошь усеянными желтыми звездочками. Молоденькие пальмы лезут отовсюду, как сорняки. Еще три ступеньки. Длинное каменное строение, массивное, но странным образом облегченное соседством могучих, нависших над ним ветвей, кажется пустым.
Давно, очень давно не видела она этого друга, родившегося в один день с нею, всего лишь часом позже; Роза называет его своим братом-близнецом.
Между ними никогда не было любви, только дружба.
Вот уже двадцать лет, как он начал строить себе это жилище на развалинах старой мельницы! И все делал сам, с помощью одного лишь подручного каменщика. Но едва он возвел стены, как вход в ущелье завалил оползень и разлившийся поток ворвался в дом. Дом был крепкий, он выдержал напор воды. Но Тицио построил новые стены, такие высокие, что теперь им не страшны наводнения.
«Настоящая крепость!» — думает она, но на душе у нее становится тоскливо. Все безмолвно вокруг, только шумит, ревет вода. Сквозь широкие окна первого этажа она видит беспорядочно сваленные балки, лопаты. На втором задернутые шторы скрывают внутренность дома. Она зовет:
— Тицио!
Зовет много раз подряд.
И смотрит наверх, где слегка приоткрыто окно. «По-прежнему ли он холост? Не хотелось бы мне беспокоить его, если он там с женщиной…»
Но он спустился — вот уже отворяет широкую входную дверь, также застекленную.
— Роза!
И они бурно обнимаются. Она чмокает его в обе щеки, жесткие и красные (их обычный цвет), он тоже целует ее бледное личико и сжимает в объятиях так крепко, что у нее все косточки хрустят. Потом, отступив назад, оглядывает ее с головы до ног:
— А вы изменились.
Она вдруг чувствует себя страшно усталой.
— Но стали еще красивее! — добавляет он.
— Ну, как вы, Тицио?
— О, я тут приболел — сердце, знаете ли, но это пустяки.
Она садится на один из двух гранитных мельничных жерновов, без видимого дела лежащих в саду.
— Этот я после оползня вытащил из-под двухметрового слоя щебенки! А второй весит целую тонну. Вот — служат столами для гостей.
— Вижу, — отвечает она, — хорошо придумали. Но как же вы их ворочаете?
— Это легко. Нужен только рычаг. Вот, смотрите!
— Осторожно!
Держа одной рукой железный прут, он подсовывает под него булыжник, и жернов начинает приподниматься.
— Попробуйте сами!
Она пробует, жернов поворачивается, движется.
— Да, просто поразительно! (Она смеется.) Это мне напомнило остров Пасхи — никто не понимал, как им удалось воздвигнуть свои статуи…
Ее удивляет теплый, мягкий воздух.
— Никогда бы не подумала, что здесь, в ущелье, столько солнца.
— Да, у меня его тут больше, чем в деревне! Зато летом под этими деревьями прохладно, как в лесу. И полно птиц! А теперь пошли, осмотрите дом.
— Замок! — поправляет она.
Он вводит ее внутрь, и она проходит по деревянным плашкам, уложенным в слое песка. Они звонко хлопают у нее под ногами.
— Паркет у меня дубовый, только я его еще не уложил.
Она останавливается перед камином, тоже недостроенным, восхищенно разглядывает кладку из тщательно обтесанных камней.
— Тут еще работать и работать! Но у меня полно времени, вся жизнь впереди.
— Вся жизнь! — повторяет она.
В ее голосе проскальзывает грусть. И тем не менее она счастлива, даже очень счастлива.
— И вы живете здесь?
— Да, наверху две комнаты совсем готовы.
Вместе они поднимаются по лестнице, проходят мимо пианино, укрытого прозрачной пленкой.
— Вот, купил пианино. Хочу научиться играть.
— О! — удивляется Ночная Роза.
Тицио толчком отворяет дверь без ручки, шаткую, как театральная декорация. За ней комната — просторная, белая, прекрасная, почти пустая; чуть скошенный потолок разделен рейками на квадраты и выкрашен в голубое, как и деревянный фриз. Похоже, будто у них над головами клетчатое голубое небо.
— Ох! — восхищенно вздыхает Роза. — Как мне нравится эта комната!
— Она для друзей.
И он помогает ей снять манто.
— Как хорошо от вас пахнет, — говорит он.
Но в то же время отворачивается от нее. «Ему противен мой слишком резкий запах. Тем хуже!» И она отвечает:
— Скоро я буду пахнуть травой.
Он раскладывает шезлонг, усаживает ее. Прикрывает ей пледом колени, ставит рядом жаровню с углями.
— К вечеру станет прохладно. Отопления у меня пока нет.
— Мне очень хорошо, — говорит она.
И закрывает глаза. Наверное, ей никогда не было так хорошо, как сейчас.
Белые занавеси волнами бегут вдоль двух стен. Диван прикрыт цветастой тканью, на большом деревянном кубе стоит пепельница, полная окурков.
— Чувствуйте себя, как дома. А я пойду приготовлю вам что-нибудь поесть.
И он выходит. Дверь остается полуоткрытой; она встает, видит что-то вроде щеколды, задвигает ее. Но между дверной рамой и потолком зияет открытое пространство. «Ничего страшного, — думает она, возвращаясь к креслу, — мне все равно нравится эта недостроенная крепость. А как там терраса?»
Но ей не хочется выходить; кроме того, все эти бетонные плиты, битум и цинковые обводы действуют ей на нервы. Здесь куда лучше. Она снова переплетает пальцы. Как странно скользят между ними темные бусинки четок, сделанные из сухих ягод Иерусалима! А почему бы ей и не помолиться сегодня, как, бывало, в детстве? Она вполголоса проборматывает «Ave» и засыпает. Черные бусинки исчезли, оставив на ее нежной коже крошечные круглые отпечатки.
Проснувшись, она думает: «Ей-богу, я предпочитаю жить с Тицио, чем с моими любовниками. Он ничего от меня не требует, позволяет спать, не просит мыть посуду».
— Вот с вами мне так спокойно живется! — говорит она, когда он входит.
Он глядит на нее с плохо объяснимым волнением. Или может, это жалость? Наверное, она уже не так красива, как прежде, ведь ей больше тридцати пяти. Но нет, она знает, что нравится ему, по-прежнему нравится.
— Все-таки дружба лучше любви, — убежденно говорит она.
— Ну, конечно. Это единственное прочное чувство, как видите! Судите сами: у меня были женщины. Много. Даже слишком много. И что же осталось? Ровно ничего! Встретишь случайно какую-нибудь из них — здрасьте, до свиданья, и весь разговор.
Она замечает, что потеряла кольцо; пальцы у нее стали совсем тоненькие. Но это ее не огорчает, или, вернее, она слишком ленива, чтобы искать его. «Найдется как-нибудь потом!» Но, подняв руки к ушам, чтобы проверить, на месте ли серьги, она вдруг ощущает тошнотворный запах.
— Что за тухлятину я ими трогала? — шепчет она.
Ей вспоминается, как в школе они с подружками изо всех сил терли ладони, а потом принюхивались к ним и говорили: «Смертью пахнет!»
И смеется.
— Чему вы смеетесь? — удивляется Тицио.
— Да так, вспомнились детские игры. Какими же мы были дурочками! А ведь хорошо быть глупым, правда?