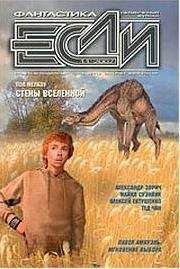Вот так и страдал он в разлуке.
Желая найти себе занятие, наведался к дороге, что идет от нового шоссе к Архиполовке. Тут обнаружил, что ямы и рвы, им выкопанные на проселке, засыпаны гравием и песком, а камни-валуны и коряги, им навороченные на проезжую часть, уже раскатаны по обочине; что же касается дорожных зеленых насаждений, то они были выдраны с корнем, и весь проселок аккуратно выровнен и прикатан.
Семён долго смотрел на эту культурную работу и пришел к выводу: и непогоду не остановишь, и против техники не попрешь. То, что он воздвигал с таким старанием, то, на что потратил столько труда, было уничтожено одним махом. Значит, если еще две недели копать и громоздить — приедет бульдозер и заровняет за одну ездку. Техники очень много, и она всесильна — это справедливо и для промышленно развитого города, и для глухой Архиполовки с ее окрестностями.
Печальным возвратился Семён к стаду от этого проселка. И поделиться этой новой печалью не с кем. Не с Митей же!
Вроде бы мелькнула в отдалении знакомая легкая фигурка? Нет, показалось. Вроде бы голос ее долетел? Нет, почудилось.
Полдня — это уже вечность!
Наконец стадо приблизилось настолько, что пастух мог рассмотреть на полотняной стене домика-палатки шевелящего усами рака. А «божья коровка» рядом сияла вся, будто только что покрыли ее лаком. Иван… вернее, тот, кто был Иваном в фильме, неподалеку, насвистывая, что-то мастерил, легонько стукая деревяшкой по деревяшке. Он очень дружески махнул пастуху рукой: мол, все в порядке, привет!
А где же.
Семён тоскующим взглядом рыскал туда и сюда — нет ее. Может, в палатке? Может, заболела? Слабенькая ведь. А вечером сырость над озером, долго ли простыть!
Увидев ее, он даже вздрогнул: она сидела опять в укромном месте на бережку, спустив ноги вниз, держала на коленях большой альбом и что-то писала.
Семёну опять показалось, что она смеется, глядя на озеро, и он, радостный, подошел к ней.
Царевна-волшебница не писала, а рисовала. На небольшом, в общем-то, листе бумаги удивительным образом поместилось огромное пространство. Семён увидел и озеро, и отражающиеся в нем берега, облака, и остров посредине с рощицей молодых березок и осинок, и свою деревню на том берегу.
Деревню-то он не сразу узнал: на окраине Архиполовки, на холме, который почему-то называли Весёлой Горкой, была изображена… церковка. Она тоже ясно отражалась в озере — деревянная, маленькая, судя по всему, недавно построенная, очень весёлая, радостная на вид: всё в ней ростилось, стремилось вверх — деревянные луковки-купола, узкие, стрельчатые окна, старая колоколенка. Да, говорили, что некогда церковь была. Он, Семён Размахаев, не застал ее, поскольку родился лет на десять или даже пятнадцать позднее ее безвременной кончины; а скончалась-то она в двадцать каком-то году после того… как попа Василия Сверкалова (нет, это не отец Витьки, а дед) увезли куда-то за грехи. Вскоре строение приказали разобрать на дрова, но никто не хотел топить печи этими дровами, и однажды ночью, как рассказывают ныне старушки, брёвна сами собой загорелись. Взнялось пламя высокое и отлетело в небо, оставив только пепел. Теперь вот на Веселой Горке только густая поросль черёмухи да сирени — непролазная чаща.
Значит, вот она какая была, Архиполовская церковь, построенная некогда в честь Рождества Богородицы. Если б достояла доныне — веселый этот росточек, стремящийся к небу, очень бодрил бы деревню с озером и добавлял всей местности что-то такое, что совершенно необходимо, без чего некая несообразная пустота зияла. Если б она стояла, церковь, тогда плоскость озера с его низкими берегами обрела бы высоту и нерасторжимое единство со звездным миром. Семён вздохнул от сожаления, что нет уже церквушки. Царевна-художница оглянулась, кивнула ему приветливо, но будто ветерком опахнуло Семёна: столь прекрасная вчера, сегодня она была этак будничной на вид, и взгляд ее не был таким животворящим, как накануне.
— Сядьте, Семён Степаныч, вон туда, — повелела она, ковком головы указав на береговой камень-валун. — Я напишу ваш портрет.
Ха, портрет! У него и фотографии-то не было своей, а тут тебя нарисуют. Это было бы здорово!
Он послушно сел, пригладил волосы, подвигал плечами, чтоб побравей выглядеть, а она уже рисовала его, приговаривая:
— Смотрите на озеро, а не на меня.
Но он смотрел на нее. То, что сегодня на ней было надето, — и непарадно, и ненарядно: какой-то костюмчик из мягкой, мятой ткани. Ноги босы, и пальцы на ногах поразительно длинны, с узкими-узкими ногтями; голубые жилки кое-где просвечивали сквозь мраморно-белую кожу и а лодыжках, и на руках, обнажённых до локтей. Поймав его мысль, она улыбнулась и одёрнула рукава, а ноги спрятала в траву. Семён в смущении отвёл глаза. Не было у него в душе прежнего восторга — только щемящая жалость.
— Так, так, — ободряюще кивнула она. — Именно так.
Он не понял, к чему это относится. Не понял и того, почему она, рисуя, то и дело смотрит на озеро.
Сидеть ему пришлось недолго, вскоре она уже сказала:
— Ну вот, кажется, готово.
На листе бумаги был изображён довольно диковатого, своевольного вида мужик с нечесаной гривой соломенного цвета волос, рыжебородый, в домотканой рубахе; одна рука, грубая, корявая, положена ладонью на грудь, будто он клятву произносил или молился. Ничуть тот мужик не похож был на Семёна Размахаева… а впрочем, нет, похож: у него такой же хрящеватый размахаевский нос, и тот же костистый склад лица, и по-детски синие глаза. Вот только две борозды-морщины резко легли по сторонам рта — таких у Семёна не было.
«А-а, это она меня в старости изобразила!» — подумал он.
Царевна-художница покачала головой: нет, нет.
Глаза нарисованного мужика смотрели требовательно и смело: чего, мол, надо? Совершенно живые глаза; взгляд их был ощутим настолько, что Семён чувствовал его, даже отвернувшись. То был явно очень бедный мужик, но дерзкий, сильный, привычный ходить на медведя с рогатиной, подковать лошадь, вытащить из топи застрявший воз. Конечно, он работяга и хозяин — видно по руке, положенной на грудь.
— Это не я, — сказал Семён.
Она опять улыбнулась.
— Ничего, я потом уточню. Думаю, это кто-то из вашего рода.
— Дед?
— Не-ет. Даже не прадед, много дальше.
Подумала и добавила:
— Может, это Архип, по имени которого зовётся ваша деревня. Я пока не знаю.
Так ли, нет ли, но Семёну ясно было, что этот мужик, судя по его смелым и неуклончивым глазам, никому не дозволил бы бесчинствовать на озере. Это хозяин был! Хоть и в бедности, но хозяин.
— А вот что бородатый и с такими руками… вы придумали? Неужели тот мой прадед был таким?
— Так отразилось в озере, — объяснила она. У меня отсутствует воображение, я ничего не выдумываю.
— И церковь? — спросил Семён после паузы. — Тоже оттуда, из озера?
— Да. Там всё, что было, и то, что есть ныне. И мы с тобой. Материя хранит в себе отпечаток образа — это ее память. Она и в озере, и в воздухе, и в камне.
Семён удовлетворенно кивнул:
— Как на фотопластинке.
И по своему обыкновению, впал в задумчивость. Ему послышался колокольный звон, плывущий над Царь-озером, и почудился большой костер в ночи, когда языки пламени рвутся вверх подобно росткам молодой осоки, подобно колоколенке церкви.
Актёр подошел, оживленный, азартный, о чем-то заговорил, но Семён его хоть и слышал, но не взял в понятие.
— Семён Степаныч! — окликнул Роман. — Что закручинился? Здоров ли?
Тот в ответ ни гугу. И напрасно: Роман рассказывал, как поставил удочку с живцом, и на его глазах подплыл бобер и живца откусил. Происшествие такое отнюдь не огорчило рыболова, а напротив, привело в восхищенное удивление.
Но Размахаю было не до этой пустяковины.
— Это что же, — сказал он, — придет время, и озеро пропадет, как наша церковка. И все, что в этой воде подобно изображению на фотопленке, погаснет? Пропадет, и ничего не останется?
Ведьмочка-художница, наверняка знавшая что-то, молчала, и это встревожило Семёна.
Актёр взял в руки альбом, разглядывал, как видно, церквушку, приговаривал:
— Хороша. Ах, как хороша!
— И что же останется? — вопрошал Размахай. — Чертополох? Или пустыня сюда придет?
Никто ему не отвечал.
— Семён Степаныч, молочка бы парного, а? — вздохнул мечтательно Роман и положил руку ему на плечо. — Я и котелок вымыл. Вон он под кустиком.
Пастух рассеянно взял вчерашний котелок и отправился к стаду.
— Что, его дела плохи? — спросил актёр у женщины, провожая его глазами.
— Боюсь, что да, — тихо отвечала ему подруга. — Я не могу предсказать всего до мелочей, но в главном, боюсь, что да, плохи.
— Зачем же они погубят его?
— Ты про озеро?
— Разумеется.
— Странно, что этот вопрос ты адресуешь мне, — женщина вдруг заволновалась, тонкие руки ее стали беспокойны. — Я возвращаю тебе его, ты и ответь. Дело не только в этом озере — таких озер — тысячи! Во имя чего вы их губите? Чем вы будете дышать? Чем вы будете живы?