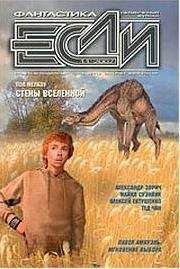— Что, его дела плохи? — спросил актёр у женщины, провожая его глазами.
— Боюсь, что да, — тихо отвечала ему подруга. — Я не могу предсказать всего до мелочей, но в главном, боюсь, что да, плохи.
— Зачем же они погубят его?
— Ты про озеро?
— Разумеется.
— Странно, что этот вопрос ты адресуешь мне, — женщина вдруг заволновалась, тонкие руки ее стали беспокойны. — Я возвращаю тебе его, ты и ответь. Дело не только в этом озере — таких озер — тысячи! Во имя чего вы их губите? Чем вы будете дышать? Чем вы будете живы?
— Значит, Царь-озеро обречено, — вздохнул актёр после продолжительного молчания. — Ай-я-яй. Что же тогда ожидает нашего пастыря?
Он оглянулся на стадо, где Семён уже присел на корточки возле Светки, зажав котелок в коленях.
— Посмотри, пророчица моя, как он доит! Это ж высший класс: попасть струями молока в котелок. Я думаю, он мог бы и в бутылку точно так же надоить!
Женщина тоже посмотрела в сторону стада, и слабая улыбка появилась на ее лице. Актёр спросил:
— Он утверждает, что у судьбы в резерве. От него что-то зависит?
— Как от каждого из нас. А за него я боюсь.
Тень прошла по ее лицу, некое содрогание, как от боли, пробежало по худенькому телу.
— Не надо, — он заботливо, этак осторожно обнял ее за плечи. — Мы пройдем каждый свой путь. Не надо нас жалеть. Может быть, кому-то из нас повезет, и ему выпадет тот подвиг… как целебное средство от массового помутнения разума.
— Не тебе, не тебе.
— Как знать! — отозвался он обидчиво.
— Прости меня. Что-то сегодня смутно на душе, никак не найду успокоения. Даже вот рисовать принялась да не помогает.
— Тогда уедем? Я знаю одно местечко на Нерли Волжской.
— Что ж, можно и уехать. А предок хорош, верно? Сколько жизненной силы, сколько отваги! И воин, и охотник, и хлебопашец. Вроде твоего Ивана. Хорошие тут жили люди, Рома, хорошие. И ещё живут, верно?
— Мельчаем, мельчаем, умница моя. Верно наш пастырь говорит: исчезает чистая вода, всё грязнее воздух. Я недавно где-то вычитал: даже миражи и призраки бывают лишь в чистой атмосфере! Ведьмы и русалки перевелись, ты — последний экземпляр, как знамение грядущей катастрофы..
— Ты поплатишься за дерзость, — пригрозила она шутливо.
— Пища наша всё более и более отравляется химией — и молоко, и зерно. Мы умираем при жизни, как тот камень, что ты показывала вчера.
— Но ведь ты вроде бы оптимист! — напомнила она.
— Мне хочется быть оптимистом, а получается из меня только жалкий бодрячок, — признался он.
Семён уже возвращался назад. Котелок он держал столь бережно, как вчера, но молоко раза два выплеснулось через край.
Опять эти двое пили, передавая котелок друг другу, а пастух стоял рядом, из деликатности стараясь не смотреть, как они пьют, и однако же, покоряясь властной силе их притяжения.
Тень страдания мелькнула вдруг на лице женщины, она оглянулась на озеро. Будто больно ей вдруг стало.
— Вы что? — встревожился Семён.
— Ничего, так. Голавлю подвернулась крупная сорожка. И проглотить не может, и не отпускает. Мучается сорожка.
— Эко дело! — чуть не сказал Семён.
— Вот проклятая боль, — пожаловалась она. — Вдруг наплывает, наплывает на меня чьё-то страдание и начинает терзать — невыносимо!
— Отвернись, отвернись! — поспешно сказал ей Семён и глянул на актёра: прикажи, мол, ты ей.
— Солнышко моё, — сказал актёр, — пей молочко. Оно исцеляет.
— Что же, разве у вас не так? Рыбы не едят рыб? — спросил у нее Семён.
Она покачала головой: нет.
— Но как же! — удивился он, словно возмутился. — Как же тогда.
— У нас нет рыб. И нет птиц. И нет зверей. Они только в преданьях старины глубокой.
— Ничего нет? — испугался пастух. — Вот беда так беда.
Лицо его приняло такое выражение, словно он узнал, что они там неизлечимо больны, обречены на смерть, и он не может им ничем помочь, как не может скрыть своей жалости к ней и страха за нее.
— У нас другое, — сказала она, будто желая ободрить его или себя, — и это другое, достояние наше, не менее ценно, поверьте.
Она не удержалась от упрёка:
— Однако же в отличие от вас, мы умеем его беречь, это достояние, умеем быть разумными.
Семён понимающе кивнул, хотя ничего не понял.
— Она хочет вернуться туда? — спросил он потихоньку у актёра, пока она пила молоко.
— Конечно, — кивнул он.
— Там лучше, чем у нас? — спросил пастух у нее, когда она передавала котелок актёру.
— Там моя родина, — отозвалась она тихо, и вдруг — как это прекрасно! — слезы навернулись у нее на глазах.
— Да, да, — и обрадовался этим слезам, и немного растерялся Размахай. — Извините. Но все-таки как же… если все не так.
— Разве словами объяснишь! Это надо видеть. Да и не имею я права объяснять, — и пошутила со слабой улыбкой: — Не уполномочена.
— Я говорил тебе, — напомнил актёр. — Нам этого не понять. А поймем — мозги сразу набекрень.
Он словно раз и навсегда отказался что-то понимать и, допив молоко, ушел насвистывая. Вот легкий человек! Счастливый человек. Семён же размышлял, усиленно двигая кожей на лбу, потом спросил:
— Ты собираешься вернуться?
— Не знаю. Если удастся!
Он попросил решительно и твердо:
— Возьми меня с собой. Когда надумаешь возвращаться, скажи мне, я пойду с тобой. Что тебе пользы от Ромы! Он отличный мужик, но что от него? Я пойду.
— А озеро? — улыбнулась она. — Останется без присмотра?
— Я посмотрю, как у вас там все налажено-устроено, и вернусь.
Женщина печально покачала головой.
— Что? Нельзя?
Она молчала.
— Но должен же кто-то нам помочь! — возмутился Размахай, возвышая голос. — Неужели вы не видите, что сами мы уже не в состоянии справиться? Ну, помогите нам! Вы можете научить, как спасти все это. Ведь надо же непременно спасать, иначе мы пропадем.
Она смотрела на него внимательно и, как ему показалось, отчужденно.
— Посмотри, — убеждал Размахай с еще большим пылом и жаром, — кругом дымят заводы и города, жрут кислород самолеты и ракеты, всякая химия течет в реки и озера.
По словам Размахая выходило, что вот за этим перелеском почти погубленный Байкал: в нем уже мрут тюлени и рыба-омуль, потому что не выносят загрязнения, и пить байкальскую воду скоро будет нельзя. А за Хлыновским логом — Аральское море: на карте географической оно есть, а на деле нет, превратилось в соленую лужу, и оттого великие беды не только Средней Азии, но и всем, где бы они ни жили. А Векшина протока не куда-нибудь — в речку течет, а та речка впадает в Волгу.
— Что с Волгой, знаешь? — спрашивал он. — Эти деятели превратили ее в сточную канаву… или скоро превратят. Волна качает берега! Совсем хана. Возьми меня с собой. Я способный, на лету схватываю. Может, уразумею суть вашего жизнеустройства и вернусь сюда.
Она продолжала молчать. Ясно было, что не хотела брать его с собой. И это ее-то он полюбил!
— Ну, так я не хочу больше с вами знаться! — уже закричал Размахай. — Что вы за люди? Почему вы глухие?
На крик его вышел из-за кустов встревоженный актёр, обменялся с подругой взглядами. Семён услышал, как он спросил негромко:
— Чего просит этот ребёнок?
И она что-то быстро ответила ему; вид у нее был виноватый.
— А-а! — сказал актёр. — Земля наша велика и обильна, но порядку в ней нет. Придите править и владеть нами. Так? Это уже было.
— Почему до вас не докричаться, хотя вы рядом? — продолжал наседать Размахай, обращаясь у же к ним обоим. — Чем вы лучше Сверкалова и Сторожка?
— Семён Степаныч, мы справимся сами, — бодро сказал актёр. — Должны справиться, и это нам по силам, уверяю тебя.
Но Размахай не слушал его. Что может сказать этот бодрячок, постоянно играющий чужие роли, перед всемогущим и всеудушающим злом? Оно просечет жизнь всех: и людей, и зверей, и рыб, и птиц, и букашек — неужели это неясно? Семён не мог слушать ничьих бодрых заверений — достаточно он их наслушался по телевизору и начитался в газетах! — потому отвернулся весьма нелюбезно и ушёл к стаду.
17
Митя по-прежнему был занят ухаживанием, не отставал от своей избранницы ни на шаг и все норовил обнять ее. Несколько коров, не обращая никакого внимания на Митины шашни с Милашкой, отправились на поле, но то оказалось совершенно пустое поле, без лакомой озими — на нем недавно посадили картошку, а она едва-едва начала всходить. Семён даже не пошел заворачивать оттуда коров, и они сами вскоре вернулись.
В расстроенных чувствах пригнал стадо к деревне, поставил здесь на полдни и отправился домой берегом озера. Настроение было — хуже некуда. Напротив дома Сторожковых увидел Володьку: парнишка купался на мелководье в заливе, куда кто-то сбросил шины тракторных колес и разрезанную пополам бочку из-под солярки.