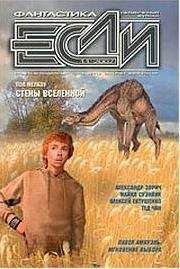Она засмеялась и продолжала, оглядываясь на него, хлопотать вокруг машины: бросила щепотку чего-то в остывший костер — трава тотчас посдвинулась над кострищем, скрывая обожженное место; захлопнула багажник, и Семён увидел на нем усатого рака величиной с локоть — это был тот самый, с палатки. Да что он, переполз, что ли?! Пастух подошел и украдкой потрогал его — да, рисунок. Что за чертовщина!
Из-за кустов вдруг появился… Иван. Усталый, в пропыленном и рваном обмундировании, со шрамом на щеке и брови. Подошел, прислонил винтовку к «божьей коровке» — приклад ее был прострелен, и Семён знал, при каких обстоятельствах это произошло.
— Ну, прощай, браток, — сказал Иван так знакомо и руку протянул Семёну. — Может, еще свидимся…
У Семёна екнуло сердце. Он пожал протянутую руку — то была не холёная рука актёра, а именно солдата Ивана — грубая, с обкуренным большим и указательным пальцами, с мозолями настолько явственными, — не ладонь это, а корневище дерева; и чуб поседелый из-под пилотки. Пахло от Ивана дымом, потом, пороховой гарью… словно он только что вышел из боя, что продолжается в ближних лесах.
— Ты все воюешь? — спросил потрясенный Семён, веря и не веря собственным глазам.
— А как же иначе, браток?
— Война вроде бы кончилась…
— Но ведь они наступают!
— Да, верно, наступают.
— Кто это «они»? — спросила женщина, появляясь рядом.
— Те, кто против нас, барышня. А мы за правое дело.
— Но кто определяет правоту? Тут важно не ошибиться.
— Не финти, барышня, не финти. Мы знаем их в лицо, гадов: у меня свой враг, у Семёна Степаныча свой, но суть одна: мы за правое дело.
— Значит, другого пути у вас нет? Только через насилие, через войну?
— Посторонись-ка, барышня… Куда идет ваша таратайка? Не прихватите ли меня вон до того леса, там наша позиция.
— Прихвачу, — сказала ведьмочка-царевна, опечалившись.
— Я солдат, и моя война продолжается. Пока гадов не одолею, пахать и сеять некогда. Да и вы, барышня, оглянитесь вокруг: война продолжается! Вот так-то, умница моя. Ну что, едем?
— Законом жизни должна быть любовь — всеобщим законом! — тихо сказала «барышня». — Сутью человеческой деятельности должна быть красота. Целью творческих поисков — истина.
— Тебе хорошо говорить, — сказал солдат, пристраивая винтовку внутри маленькой машины — никак не умещалась. — Ты, должно быть, нездешняя. Вишь, чистенькая какая, и свет неземной в очах. А нам иначе нельзя: ведь они прут на нас, гады! И мы исполним свой долг, потому что мы солдаты.
Он подошел к Семёну, подал руку:
— Ну, еще раз… прощай, браток. Что-то понравился ты мне. Я б тебя в разведку взял. Ладно, может, еще выпадет. Мы еще повоюем, верно?
Семён проглотил комок, застрявший в горле, и подтвердил:
— Повоюем… только чтоб за правое дело.
— А иначе жить не стоит! — сказал Иван, отходя.
И он, и женщина уселись в «божью коровку» с двух сторон, машина сама собой закрыла два последних крылышка и стала гладкая, будто цельная, этак обтекаемая. Кстати, были у нее колеса или нет? Семён никогда не видел их. Рак бесцеремонно раздвинул черные круглые пятна на «спине» машины, устраиваясь поудобнее, а «божья коровка» шустро двинулась вперед, приминая высокую траву, которая, однако, тотчас выпрямилась. Семён увидел, что женщина, наклоняясь, заглядывает в окошко, чтоб увидеть его…
— Мы брат и сестра! — крикнула она. — Помни об этом!
Когда они исчезли за кустами, он рванулся следом, чтоб предупредить: там же болото! Но тотчас остановился: они, конечно, знают… и им ничто не помеха.
18
На другой день, рано поутру, приехал на мотоцикле участковый милиционер Юра Сбитнев. Он опросил свидетелей, исписал пачку бумаги и увез поджигателя и хулигана Размахаева Семёна. Кстати сказать, Юра чем-то ужасно похож на Сторожка, хотя если разобраться, то что же похожего? Холера белобрыс, а Юра черняв; у Холеры глаза — как у кошки Барыни, когда на охотится на воробья, а у этого с хитрецой и ужасно умные, потому что в красивых очках. А похожи тем, что они со Сторожком приятели, и оба горячо любят саксофониста Рони Эдельмаса, певичку Трури Ферлуччи и рок-группу «Ковантере», которой руководит трясучий Хепхоук.
Дорогой между арестованными и милиционером состоялась увлекательная беседа.
— Ты, Семён Размахаич, вот что имей в виду: люди, вроде тебя, — вымирающее племя. Как грибной слой — прошли, и нету. Ваше время вышло, понимаете? Вы обречены, исчерпали свой лимит.
Юра очень ловко управлял мотоциклом, Семён в коляске сидел барином.
— Вот в давние-предавние времена были неандертальцы, питекантропы, кроманьонцы и прочие. Забыл уж, в какой они последовательности жили. Они свой век отбарабанили — и нету их. Согласно эволюционной теории Дарвина теперь пробил час и для тебя, Семён Степаныч, и для тебе подобных. Не обижайся, я это по-хорошему и совсем не желая оскорбить. Предостеречь хочу: если не переменишься, если не переродишься в нового человека, тебя сомнут, стопчут — и правильно сделают! Если б я был такой, и меня очень просто смяли бы.
Арестованный оглядывался на милиционера поощрительно:
— Давай-давай дальше, я слушаю.
— Сейчас растолкую, век меня будешь благодарить. Ты сколько классов кончил?
— В девятом бросил.
— А я десять. Ну, неважно. Образование нам обоим позволяет: до десяти считать умеем, кое-что в состоянии понять, верно?
Семён пожал плечами: попробую, мол.
— Суть в том, слушай меня внимательно, что сейчас наступило другое время: техническая революция, информационный бум, в космос прорвались… промышленная технология идёт и в деревню. Жизнь очень убыстрилась. Посмотри вокруг: машины мчатся, самолёты летят, бульдозеры гребут, экскаваторы роют — всё ревёт, рокочет, рычит. В этих условиях надо что? Надо приноравливаться к жизни, а не стопорить ее: тех, кто стопорит, ждёт жалкая участь. Мы сейчас на вираже, понимаешь? И на большой скорости. Кто не с нами — вылетает на обочину с риском для жизни. Он отстаёт и остаётся позади. А дальше скорость ещё больше возрастёт. Наступило время людей, для которых машина, прибор. Агрегат, аппарат — друзья и товарищи. А ты или люди вроде тебя что? Вы никак не приноровитесь, потому и хнычете. У вас то грусть об утраченном, то воспоминания о прошлом, то жалость к пташкам-букашкам… чепуха всё это, Размахай Семёныч! Ты пойми: это сущая че-пу-ха.
Сбитнев так убеждённо говорил… просто руками разведёшь, да и только.
— Пташек жалко, — сказал Семён где-то слышанную фразу.
— Да бог с ними! Мы их потом в пробирке выведем миллион с десятком. Вот все эти твои чувства — грусть да печаль, жалость да сострадание — тоже отмирающее, остаточное, как аппендикс. Оно от пещерной жизни унаследовано нами. От такого багажа надо отрешаться самым безжалостным образом!
— А как же. Ты вот музыку слушаешь для чего? Чтоб пробудить в себе это самое — хорошее чувство, то есть радость, печаль. Грусть…
Это так Семён пытался защищаться. Но где там! Разве этим ребяткам что докажешь!
— Нет-нет! — решительно отверг Юра. — Музыка нужна мне вместо электрошока: чтоб толкала к действию! Она меня по нерва — бац! — ходи давай! не спина ходу! шевелись! Понял? По утрам будит: вставай! делай зарядку! мотоцикл заводи!
Семён глядел на Юру и удивлялся: ну, парни, откуда вы берётесь? Похожи друг на друга, как головастики. Сторожок, ладно, он пришлый, нездешний, а Юра-то здесь вырос! С его отцом Семён вместе парнями гуляли, вся родова Юры составлена из тех же веществ, что и Размахаевы: воду пили из одного водоносного пласта, молоко из одинаковой травы, почти что с одного луга, картошка с одной земли. Почему же люди такие разные получились? Кто их такими делает?
Юра привёз его сначала в Вяхирево, зашли в правление, он стал звонить куда-то, а арестованного вызвал к себе председатель.
— Ну что, — сказал Сверкалов устало. — Я ж тебе говорил: чти уголовный кодекс.
Размахай ответом его не удостоил.
— Значит, так: я тебя сам судить буду. И сам определю меру наказания, ее потом оформят в суде честь честью. Если ты уже осознал свою вину, сейчас приглашу Сторожкова Валерия и нашего милицейского, уладим полюбовно. Ты Валеркиной тёще и жене принесешь свои извинения, а самому Сторожку поставишь бутылку, лучше две. И на том покончим. Но ты пообещаешь никогда — ты слышишь? — никогда не совершать своих дурацких дел. Если же на мировую не пойдёшь, посажу на три года.
— Чего так много? — недоверчиво спросил Семён.
— Оснований достаточно: не только частному строению, но и колхозной технике большой ущерб причинил.
— Если на всю катушку — год принудработ, не больше, — хладнокровно ответил подсудимый.
— Вот кладу руку на телефон, если будешь топорщиться, позвоню, чтоб меньше трёх лет не давали.