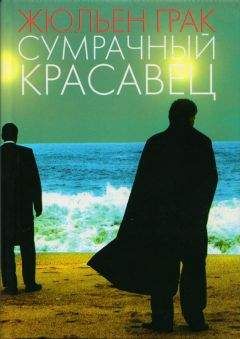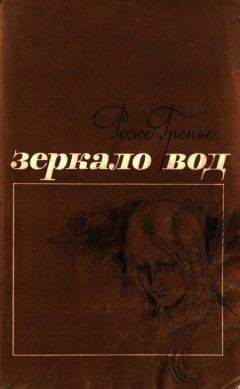— Пусть так. Я больше не буду задевать эту струну — возможно, у меня для этого недостанет убежденности. Но сегодня утром я пришел сюда, чтобы задать вам вопрос, и не уйду, пока не услышу ответа.
— Я вас слушаю. Действительно, хватит с нас этих рассуждений.
— Я готов забыть о моих догадках и предположениях, подавить праздное любопытство. Но вот мы стоим перед фактом. Вы пробудили у этой девушки, чье имя я тут назвал, интерес, обращенный не только на вашу особу, но и на нечто большее, на некое откровение, проводником, провозвестником которого она вас считает — не знаю, справедливо или несправедливо. Я изъясняюсь сухо, но, думаю, вы вполне меня понимаете.
— Возможно.
— И вот мой вопрос: считаете ли вы себя вправе, перед лицом непредсказуемых последствий, играть эту роль, которая вряд ли вам по силам?
— А почему бы и нет?
— Ладно. Больше мне вам сказать нечего. И мы расстались в гнетущем молчании.
24 августа
Вернулась Долорес. В том письме она извещала о своем приезде.
Здесь заканчивается дневник Жерара. Пояснения, которые он смог мне дать, — а я расспрашивая его часто, подолгу, увлеченно, придирчиво, — отрывки из писем, которые он мне предоставил, а также рассказы людей, живших в отеле "Волны", позволили мне завершить эту историю, чье начало смутно просматривается в этом дневнике-а развязка, даже сейчас, когда я пишу эти строки, все еще вызывает у меня ощущение нереальности.
Первое сентября — в тот год это число пришлось на воскресенье — в отеле "Волны" по традиции было днем большого праздника — ежегодного маскарада. День выдался пасмурный и унылый, под сводом туч медленно вызревала гроза, и невыносимо душный вечер тянулся в томительном ожидании. В приготовлениях к празднику — главному событию сезона, после которого гости понемногу начинали разъезжаться и в отеле становилось просторнее, — в этих приготовлениях было что-то лихорадочное, суетливое. После возвращения Долорес Аллан почти не расставался с ней, и его отношения с "неразлучной компанией" свелись к общим развлечениям. Похоже, в это время он слишком увлекался игрой. Сезон близился к концу, и кое у кого возникло предчувствие, что праздник, в котором Аллан, вопреки своему обыкновению, согласился принять участие, не обойдется без какой-нибудь скандальной выходки.
Жерар больше других мучился этими опасениями. Мрачный, замкнутый, часто с не свойственной ему резкостью обрывая разговор, он надолго уходил к себе, мерил шагами комнату, без конца курил. Лишь в обществе Анри ему становилось легче, — однако он постоянно заводил речь о предстоящем празднике, называя его "праздник без грядущего утра". Он сам не мог объяснить себе то странное состояние полугипноза, безвольной растерянности, в котором находился всю эту неделю. К Аллану он испытывал сложные чувства. "Я не мог расстаться с ним, — сказал он мне позднее, — стоило мне увидеть в окно, как он выходит из отеля, — а я долго, терпеливо его высматривал, — и я начинал задыхаться в четырех стенах, выходил и шел вслед за ним, в ту сторону, куда он вроде бы свернул. Я не надеялся ни на что, даже навстречу с ним. В ту неделю погода стояла пасмурная, тихая, море было необычно спокойным. Иногда, бродя по дюнам, я ложился на песок и, запрокинув голову, — всякое другое занятие вдруг начинало казаться мне пустым и нелепым, — следил за вереницей туч, которая плыла над зыблющимися травами. И не мог отогнать от себя воспоминание о последней встрече с Алланом — с непостижимым, тупым упорством я воскрешал в памяти модуляции голоса, едва уловимую интонацию, которая внезапно обретала для меня особую важность, казалась мне каким-то паролем, ключом к разгадке. Ибо при всей моей неосведомленности я был твердо уверен: Аллан тогда сказал мне все, наши с ним отношения, помимо пустых светских условностей, были исчерпаны — теперь игра велась на другом поле. Надвигался скандал, он уже носился в воздухе, нагнетал тревожное возбуждение, так непохожее на обыкновенную предпраздничную суету, веселую, беспечную, — он придавал лицам тот чересчур яркий, нездоровый румянец, какой выступает на скулах при лихорадке. Весь день в отеле шла суета, повсюду расставили деревья в кадках, — и залы окутал полумрак теплицы, где затухали и гасли звуки. Больше всего меня угнетало то, что на этом балу все будут в масках. Узнать, в каких костюмах будут участники "неразлучной компании", оказалось невозможным. Что-то подсказывало мне, что Аллан наверняка воспримет этот праздник как вызов как пресловутый шанс, возможность в буквальном смысле надеть маску — по сути, он ведь носил ее здесь с первого дня (о чем я так неуклюже намекнул ему при нашей встрече). И я понял, что он, с его манерой безжалостно дразнить окружающих — так матадор топает ногой и кричит на быка, которого мог бы достать шпагой, — на этом вечере непременно должен снять маску. Да, в этом искусственном мире, где нет привычных ориентиров, привычных границ, где все вдруг становится зыбким, где река времени в ледяном сверкании течет вспять, где влачатся тяжелые шлейфы, мерцает золотое шитье, переливаются старинные шелка, где все так торжественно и возвышенно, где миру призраков так легко вторгнуться в мир живых, — где и реальные дела выглядят изящным, безобидным театральным действом, сглаживаются острые углы, открываются нежданные лазейки, а ловкие пируэты проделываются так легко и так красиво, — именно там он наконец сможет играть на своем поле.
В восемь часов вечера, после наспех сервированного и съеденного ужина — за дверью каждой комнаты слышались суетливые шаги, бренчанье и звяканье перебираемых драгоценностей, падающих булавок, шелест шлейфов: шли приготовления к большому празднику, таинственные, как колдовской обряд, захватывающие, как ожидание в засаде, напряженные до бреда, торжественные чуть не до боли, и в каждой комнате, если войти без стука, можно было увидеть женщину, чем-то похожую на маньяка, репетирующего убийство перед зеркалом, — после ужина отель словно заснул, безглазый и тихий стоял он у обезлюдевшего в сумерках пляжа, где в последних отблесках света с протяжными криками еще летали птицы.
На побережье, к маслянисто блестевшему морю, опускается укрытая тяжелыми тучами ночь. Пляж пуст. Со своего балкона Жерар смотрит, как на краю бухты, среди едва выступающих из воды скал, вокруг лужиц, оставленных отливом, ходит припозднившаяся рыбачка: она медленно переступает, петляя, точно ползущее насекомое, завороженная ленивой истомой, дремотной неподвижностью солнца, застывшего над горизонтом. Дневной мир, такой надежный, умиротворяющий, казалось, уходит, тает во мраке вместе с ней. Послышалось что-то вроде приглушенного взрыва: это в большом холле отеля взревели трубы. Праздник начался.
— Не угадала, сдаюсь, — говорила Кристель необычайно элегантному молодому человеку, одетому по моде начала века. — Кстати, вы нарушили правила. Если вы изображаете такого литературного героя, которого нельзя узнать сразу, вы должны носить его символический атрибут.
— Извините, дорогая, но из учтивости я вынужден был оставить этот опознавательный знак в гардеробе. Тогда, конечно, вы узнали бы меня сразу — как по белому плюмажу в разгар битвы узнают полководца.
— Позвольте же…
— Это моя бобровая шапка. Я в костюме Лафкадио.[8] Я вас похищаю?
Они пошли танцевать. Кристель явилась в костюме Атала:[9] она немного подкрасила лицо, но в целом выглядела отнюдь не дикаркой, а весьма благопристойной особой. На шее у нее висел маленький золотой крестик.
— Как вы думаете, почему Керсэн вдруг решил в этом году посвятить маскарад литературным героям? Он милейший человек, но такая затея совсем не в его духе.
— Скажу вам по скрету: это идея Жерара. А Керсэн ловит каждое его слово.
— Жерар здесь?
— Вон он, танцует с перезрелой Вертеровой Логгой. Как ему идет этот серый гусарский доломан! По-моему, это форма русского офицера. Увы! В этой литературе я полный, абсолютный невежда.
Жерар воображал, будто в этом доломане времен Аустерлицкого сражения каждый признает в нем князя Андрея из "Войны и мира".
Оркестр умолк; пары танцующих распались. В зале было уже много народу — почти все гости отеля. Вечер становился все оживленнее.
— Месье де Растиньяк? "А теперь — чья возьмет!" Ладно. Но перед тем как ввязаться в борьбу, пройдитесь со мной к этому бару новейших времен… Меня одолела жажда.
— У Жака такой вид, словно это его первый бал. Поглядите-ка на него, он совсем оробел, пьет, чтобы набраться храбрости. Похоже, этот Растиньяк тайком улизнул из пансиона мадам Воке.
— Замолчите, вы, злюка. Вам лишь бы посмеяться над кем-нибудь. По вашей милости мы выглядим сегодня точно школьники в день приезда инспектора. Это ведь ваша идея?