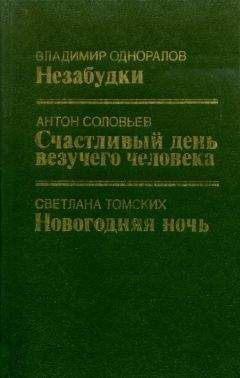— Баба Таня, — кричу, — вы в летней кухне никого не закрыли? А она: «Нет, сынок, сено не прелое. Нынче сено привезли, слава богу, доброе». — Я тогда кричу ей прямо в ухо: — В летней кухне мяукает кто-то!
— Ах, — уронила баба Таня вилы, — а я гляжу — где моя Брыська, неделю уж нет. Думала, ушла она от меня, а это я сама, старая старуха, заперла ее нечаянно.
Пошли мы освобождать Брыську из заключения. Как она выскочила, как выпрыгнула — и бабе Тане на грудь. Мурчит, и, честное слово, как собака ее лижет. А баба Таня мне ее сует: «Ты вот его лизни, от тебя услыхал, а я бы, глухая, уморила тебя без вины». — Брыська поняла и меня тоже лизнула.
И я решил: эта кошечка — не Кузьма. Надо ее попросить, тем более, она мне обязана жизнью. Нашел я бабу Таню в огороде, она морковку дергала. И кричу ей в ухо: «Баба Таня! Можно я Брыську на ночь возьму. А то мыши мои меня съедят».
— Так ты хочешь кошечку взаймы взять? — она отвечает. — Возьми хоть на три ночи. У меня коровка есть, курочки, котенок еще один брыськин, а тебе скучно. Возьми.
Брыська тут же была, в невыдерганной морковке кузнеца ловила. Я взял ее, погладил и принес домой. Она начала домик обнюхивать, обходить, а я налил ей в маленькое блюдце молока — кошечку взаймы обязательно угостить надо. Показалось мне, что мало этого молока Брыське, и еще налил, в большое блюдце. Брыська же попила из маленького, а большое не тронула даже, и замурчала: хоррошо, подежуррю до утра. Нашла она дыру возле печки, села рядом и ушки на дыру наставила. И ушки, и усы. Я затопил опять печку и сел письмо дописывать. А Брыська — возле дыры сидит, как застыла. Я дописал письмо — хорошо получилось, почитал немного книжку и лег спать. Возле печки от поддувала — красноватый шар света, в домике тихо, тепло, мышки носа не кажут. И я уснул.
Во сне послышался мне писк и, наверное, Брыська на мягких лапах — прыг, прыг. И опять тихо. И, немного погодя, вроде кто-то бормочет, обиженно как-то, горячо, будто угольки в печке пощипывают. Я совсем проснулся (так иногда дочь Маша во сне обиженно бормочет), приоткрыл глаза, смотрю, не шевелюсь. А у печки в красном шаре света сидит моя Брыська и напротив что-то сероватое. Мешок, что ли? Но с ручками и ножками в валеных котах. Сидит оно в обнимку с веником и как балалайку его теребит. Пригляделся — и личико у него есть, грустное, вроде картошины с носом и маленькими глазками, и волосы и борода, и будто оно золой посыпано. И бормочет:
— Брыська, Брыська, ты мышек моих не гоняй. Они ведь мои мышки, я с ними тут живу.
— Мышки, домовушки, хозяину письма писать мешают. А хозяин хороший, он меня спас, — отвечает Брыська.
Так это значит домовой!
— Хороший, хороший, — бурчит домовушка, — а приезжает редко, всю зиму один живу, одни мышки со мной. Хороший, хороший, а веник у него какой? Одни будылья, таким пыль не выметешь.
— Все равно, домовушка, нехорошо, что мышки ему мешают.
— Нехорошо, нехорошо, а это хорошо, что он меня не уважает? Приедет, не поздоровается, уедет, не попрощается. И веник опять же негодный.
Вот ведь что! Но я-то и не знал, что он у меня живет.
— А вот он тебе целое блюдце молока налил, — говорит Брыська.
— Молока, молока, не пью я молока. Мне уважение нужно, и веник опять же вот-вот рассыпется.
— Знаешь, домовушка, он ведь городской, и, конечно, невежа. Но я ему расскажу про тебя, он исправится.
Оказывается я — невежа! Я аж на кровати завозился.
Брыська на меня обернулась: «Тише, он проснулся, кажется!»
Я глаза крепко закрыл, притворился, что сплю, и правда, уснул.
Утром я погладил Брыську и говорю ей: «Спасибо тебе, Брыська, я слышал все. Ты скажи только, как его, домовушку, зовут? — А Брыська мурчит: «Харритон, Харри-тон…» — Взял я старый веник — действительно, не веник, а стыд один — и бросил его в печку. Наломал во дворе высокой, кустистой полыни, связал аккуратно, ровненько подрубил — и получился новый, пахучий замечательный веник. Поставил его в угол за печку и говорю: «Вот, Харитон, тебе новый веник, а поеду в город еще и магазинный куплю. Мне для тебя не жалко. Мне приятно, что ты у меня живешь».
Брыська в тот раз еще три ночи со мной ночевала. Мышки больше не баловались, и, что странно, пыли в доме совсем не стало, печка с одной спички разгоралась, а цветы долго не вяли. По вечерам не тоскливо, пишу свои письма и вслух Харитону читаю…
Но это в деревне когда. А в городе, сейчас, например, все думаю: как там Харитон один-одинешенек, как баба Таня с Брыськой, Иван Петрович с Кузьмой? И в городе, где всегда много света и всегда что-то гудит или гремит — мне немного тоскливо.