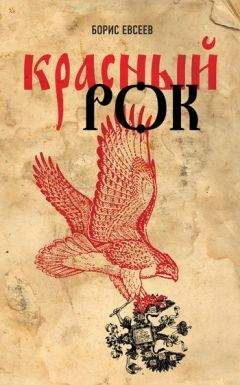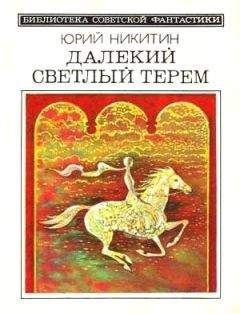Нужно было остановить машину, выйти, спросить дорогу. Но водитель дергался, серчал, кидал машину то вправо, то влево, пока она наконец не закружилась на жалком и неудобном для настоящего маневра пятачке.
Пассажир, давно не соотносивший себя с окружающей реальностью, вдруг очнулся. Ему показалось, он кружится не в машине, потерявшей дорогу, а в опрокинутом на спину, сером в крапинку майском жуке! В глаза ему вдруг полезли перевернутые деревья, опрокинутые сады, висящие над головой тропинки. Показалось: вся его жизнь так же вот перевернулась! И даже если жуку удастся встать на лапки-колесики, – все равно будет жук тотчас схвачен, покороблен, раздавлен… И никто не посчитается с тем, что ты – только пассажир внутри этого жука и кружишься на спине не по своей воле…
Внезапно машина – и впрямь как тот жук, вставший на лапки, – спружинила, дернулась два-три раза и побежала уверенно и ровно к скрытой до сих пор и от водителя, и от пассажира, шумно разрезающей надвое окрестные леса магистрали. Побежала на шум, на огни, на тусклый медовый блеск ворочающегося вдали огромного города.
Внезапно пассажир сунул руку во внутренний карман плаща, выхватил оттуда темно-вишневую короткую дудку. Он свистнул в дудку два раза, затем уронил ее на колени, а руки широко раскинул в стороны.
Водитель, потерявший на миг обзор, нырнул под выставленную пассажиром руку, бешено захлебнувшись хлынувшей на язык слюной, что-то рыкнул, стал убирать руль вправо, прижимать машину к обочине.
А пассажир крикнул: «Стоп» и сразу же – невдалеке от железнодорожного, мелькавшего сквозь посадку переезда, не проехав и десятой части оговоренного и оплаченного пути, – стал выходить. Выходя, пассажир зацепился полой плаща за дверцу. И пока он отцеплял плащ от расхлябанно торчавших из двери железок, от висевших на соплях ручек, где-то очень далеко позади него, за тончайшими и невыносимо хрупкими стеклышками бытия, снова закричал, забился в черной пене сошедший с ума петух.
Правда, теперь в голосе петуха слышались какие-то иные, просительные, даже молящие, нотки. Голос его перестал манить к себе грозной и неодолимой певческой силой, перестал подчинять разум и душу пассажира.
– Мне не туда, не туда нужно… – Пассажир, оправдываясь перед водителем, махнул рукой в сторону железнодорожной станции. – Мы не тем путем взяли…
Он вдруг стал кривить лицо, придурковато, словно передразнивая самого себя, а может, снимая мелкими внешними движениями внезапно возникшее ощущение неверности пути, затряс головой. Оставив дверь машины открытой, пассажир развернулся, тяжко и нежно волоча по примороженной грязи босые ноги, побрел к станции. Однако, до станции не дойдя, стал опускаться на проезжую часть подводящего к станции шоссе. Усевшись, он чуть вытянул вперед согнутые в коленях ноги. Посидев так, пассажир распахнул новенький плащ. Из-под плаща стала видна впопыхах наверченная на тело одежда. Крик петуха и летевшие крику вослед голоса уже меньше терзали сидящего. Чтобы совсем избавиться от петушиного крика, он снова помотал головой, вынул из кармана вареное чищеное яйцо, а из другого – кусок прихваченного газеткой и уже начавшего по краям чернеть сырого мяса. Яйцо сидящий вмиг раскрошил и высыпал себе на голову, а мясо бережно разложил на чистенькой подкладке широко откинутого в сторону плаща.
– Православные… – тонким, сладко прерывающимся голосом крикнул сидящий. Подхватив кусок мяса, он стал мять его и терзать, выжимая на новенький плащ ледяную сукровицу.
– Куда идем, православные?.. – он чуть помолчал. – Скажу, что вижу во тьме!.. – голос окреп, в нем зазвучала резучая жесть, появилась страстная хрипотца.
Несколько шедших к станции машин, проезду которых мешал сидящий, остановились. Вывалившись из дверей, ловкая шоферня брезгливо, быстро, вдвоем-втроем, за руки, за ноги оттащила дурака к обочине. Машины покатили дальше, а к сидящему стали с опаской подтягиваться пристанционные торговки, подростки, потихоньку дичающие осенние дачники.
Чуть вдалеке, за купой деревьев остановилась карета «Скорой помощи». Скорая спешила в противоположную общему движению машин сторону, и сидящий на земле человек ее не заметил.
– Вижу стену зубчатую! – звонко крикнул он. – И площадь вижу! На площади той – горы подсыхающего дерьма!.. И петух черный, хромой, шпорами над дерьмом тем – звяк-звяк… Но не ограничится дерьмом тот петух! Взлетит выше! Маковки церковные объедать станет! Только петуху тому скоро шею свернут! А мы… Мы обернемся. На дорогу оставленную глянем…
Кричавший на миг прикрыл глаза: жаркая струя стыда и одновременно наслаждения собственными словами охлестнула ему ноздри, рот.
Тут он снова услыхал далекий крик петуха и, враз испугавшись, сбившись на шепот, забормотал: «Там, за стеной, за высоченным забором… Там петух… Там…»
Там, за стеной, за впитавшим утреннюю влагу забором, петух уже смолк, и завели свою обычную утреннюю песнь санитары.
– Р-рот! Р-ротик, рот! – выводили они на все лады.
Крики санитаров, с которыми за четыре дня так и не удалось пообвыкнуться, мешали собраться, сосредоточиться.
Серов, полуобернувшись к открытому окну, морщился, кривился, вскидывал по временам вверх правую руку, лишь краем уха ухватывал носовой голосок в чем-то убеждавшей его Калерии, плохо и нехотя вникал в потаенные угрозы, слышавшиеся в покашливании сновавшего по сильно вытянутому в длину кабинету Хосяка.
– … Нет, нет и нет! Вы не тот, за кого себя выдаете! Слышите? Не тот! Вы не заговорщик. Ни в каком заговоре вы никогда не участвовали. Другие – да. Другие – сколько угодно. Но не вы! Вы просто жили в Москве. Тихо жили! Спокойно жили! И вдруг: трац-бац… Все поплыло, поехало. Раз поехало, другой, третий. Ну и не выдержали, сорвались. И навязались на вашу голову тревога, страх… Но заговоров – никаких, никогда! Заговор – это уже бред. Заговор – это из другой болезни, из другой оперы. А у вас не опера даже: так, скромная мелодийка. Обычный, глупый, обывательский невроз у вас. Невроз навязчивости. Так что бросьте ваньку валять! Выкиньте из головы все, что говорили на первичном приеме. Ну! Ну ты ведь все понимаешь! Только поделать с собой ничего не можешь. Ну это мы уберем, это мы на раз снимем. Так ведь?
– Да-да-да… – выталкивал Хосяку в ответ комочки горячего воздуха Серов. – Да, невроз, наверное… Но понимаете… Не знаю, как объяснить это получше… Я слышу голос…
– Ну брось! Сей же момент оставь! Говорю тебе: никто тебя не ищет, никто не пасет. Ты сам от всего убегаешь. От этих своих навязочек-перевязочек, от всей этой муйни: «надо – не надо», «в чем суть», «ах зачем эта ночь»… Ты просто неудачник, невротик! Вот и придумываешь себе какую-то внутреннюю жизнь, а потом ее же и пугаешься. Ну! Очнись, дурила! Ну! Глядеть на меня! Опусти руку! Язык – на место! Хватит юродствовать! Здесь люди грамотные. Тут тебе не север со снежком, тут юг: зной, темперамент, свобода. Ну! Юнга-то небось у себя в Москве всего обслюнявил. А твой случай даже не Юнг. Так… Чепушенция… Лермонтов… Синдром дубового листка. Ну, помнишь, наверное: «Дубовый листок отораася от веи оимой…»
Голос Хосяка бочковел, глох, терял согласные, вздувался крупными накожными волдырями, волдыри тут же лопались, стекали холодной, неприятной слизью по телу. И вслед за голосом бочковатым, вслед за криками санитаров вновь накатывала на Серова растерзанная осенними дождями, разодранная недовольством, но и заведенная ключиком небывалого нервного веселья, сорящая и колющая огнями, оставленная всего неделю назад Москва.
* * *
«Вниз, вниз, вниз!
Разрывая легкие, разлопывая бронхи судорожным, тяжким бегом.
Вниз, через спадающий с горки бульвар, по песочницам, мимо скамеек. Одну остановку трамвайную проскочить! Прижаться к станиолевым тонким листам, к поручням узким – на второй. Пропустить два трамвая, сесть только в третий! Запутать тех двоих, обскакать их в коротких временных обрезочках, обставить в заулках, опередить на спусках и лестницах! Вырвать, выдернуть у них из-под носа нигде, кроме собственных кишок, не существующую, тянущую паховой грыжей книзу свободу. Те двое слишком плотно ведут его. Профессионалы, мать их! Но здесь ему должно повезти: места знакомые, выхоженные, вылюбленные. Он оторвется, вывернется вьюном…
Вниз, вниз! По расширяющимся к Садовому переулкам, сквозь гастроном, через забитую ящиками подсобку, потом двором проходным и дальше резко вправо: прижаться, притереться к грязноватому ободу Садового кольца. А там – вокзал! Не называть вокзал только! Те двое мысль засекут! Они могут, обучены… Один, тот, что в бежевом плаще, влитый в черный квадрат модной стрижки – он, конечно, шестерка, «топтун», или как там на их жаргоне. А вот второй – тот явно чином повыше: веселый, лицо в морщинах мелких, и курточка кожаная тоже в морщинках. Работает улыбаясь…»