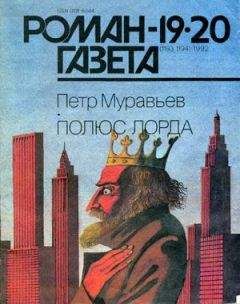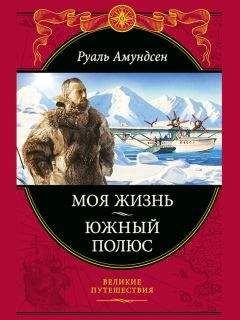– Вот вам другое решение: виски или наркотики! Иного вы ни от кого не услышите! Давайте же выпьем, Кестлер! – И, не дожидаясь его реакции, я опрокинул в себя весь стакан.
Кестлер был смущен; он понял свой промах, а мое странное возбуждение его обеспокоило.
– Не торопись, Алекс! – неуверенно сказал он. – Тебе же завтра на работу.
– К черту работу! К черту все! Мне ничего не нужно! – отвечал я почти с ненавистью, чувствуя, как хмель разбирает меня. – Этот мир плохой мир, Кестлер, и если наша планета когда-нибудь замерзнет или полетит в тартарары, я не пролью ни одной слезы. Как вам это нравится, мой мудрый учитель?
Кестлер внимательно, не мигая, смотрел на меня.
– Чего же ты хочешь, Алекс?
– Чего я хочу? – передразнил я его с актерской язвительностью. – Может быть, Алекс хочет мороженого… или шоколаду? Или купить ему пластикового утенка? Нет, Кестлер, я хочу, чтобы никто и никогда, понимаете ли, никогда не задавал мне этого вопроса! Потому что я хочу счастья, какому ничто не помешает. Я думаю, что имею на это право, да и не только я, вы тоже, Кестлер, все!
Мысли мои, освободившись от всякого контроля, странно сливались со словами и мчались без удержу.
– …Вы не думайте, я и сам не знаю, что это за счастье, – горячо продолжал я, – но знаю, уверен, что оно возможно, есть. Пусть кратковременное, но есть. Нужно только где-то что-то выправить – какую-то ошибку в нашем несчастном мироздании!
Кестлер мягким движением остановил мой словесный поток.
– Это утопия, Алекс! – сказал он. – Счастье человека – в нем самом, в его личном мире.
– Ах, оставьте ваш личный мир; это еще худшая утопия! Какой прок от такого мира, если в него постоянно вторгаются жестокость, подлость и глупость! Ну что он дал жертвам истории: всем несчастным, погибшим ли в концлагерях и застенках или от рук современных преступников и психопатов? Разве не бессовестно списывать их со счетов, а самим прятаться в свой личный мир? Это не мир, Кестлер; это – паршивый мышиный мирок, тысячи, миллионы темных норок, заполненных эгоизмом и обыденщиной. Из этих норок вскоре выползут на свет стада гусениц и, без размышлений, слопают и меня и вас, вместе с вашим личным миром!…
Кестлер молчал. По лицу его скользили тени, возникшие откуда-то изнутри. Страх, что он замкнется в себе, подстегнул меня. Я перегнулся через стол и, смотря на собеседника в упор, быстро заговорил:
– Одно средство я знаю. Это – очистить планету от всяческой мрази: убийц, насильников, психопатов, растлителей. Конечно, понадобится время, немало времени, пока зло не уйдет; мы с вами, может, этого не увидим. Но не отрадней ли умирать в сознании, что ты приложил к этому руку. Отвечайте, Кестлер, прав я?!
– Нет, Алекс! Такие попытки уже делались и каждый раз оборачивались бесполезными голгофа-ми. Ну как ты, к примеру, поступишь с теми, кто не согласится с тобой?
– Не знаю… Надо будет объединить лучших.
– А если они не захотят?
– Тогда… тогда… – Я тщетно старался придумать разумный ответ.
– Тогда ты обратишься к худшим, – ответил за меня Кестлер. – И получится, что на твоей стороне будет часть лучших и часть худших, и то же на противной стороне, то есть так, как бывает всегда и повсюду: в войнах, революциях и прочих общественных пертурбациях. Так-то, Алекс.
Мы замолчали, разговор явно иссяк. Тогда я вспомнил.
– Ведь я к вам неспроста заехал! – сказал я. – У меня к вам предложение делового порядка.
Кестлер усмехнулся.
– Вот это интересно! Я давно не слыхал деловых предложений.
– Да, деловое: поступайте к нам на службу! Кестлер удивленно поднял голову.
– Ты шутишь?
– Нет, не шучу.
– Вот это штука! – Кестлер поднялся со стула и, ероша себе волосы, прошелся по комнате. – Вот это штука! – повторил он, остановившись передо мной. – А как твой отец?
– Он согласен.
Кестлер едва не промахнулся, грохнувшись на стул; на момент опустил голову, покрутил ею, потом выпрямился и развел руками.
– Ничего не понимаю! – с неподдельным удивлением сказал он. – Когда же?
– С понедельника. Приезжайте утром, и мы обо всем столкуемся. Итак, согласны?
– Что ж, я был бы лицемером, если бы отказался. Спасибо, Алекс!
Мы сидели, испытывая смущение, какое обычно возникает, когда человек окажет другому спасительную услугу. Дальнейший разговор был труден и потому, что мысли Кестлера приняли сейчас совсем иное направление – это можно было прочесть у него на лице.
Я поднялся.
– Я провожу тебя! – сказал Кестлер.
Мы спустились вниз и медленно направились к станции сабвея.
На перроне было безлюдно, только какая-то парочка усиленно целовалась, прислонившись к бетонному столбу.
– А как та… другая? – неуверенно спросил я. Мой спутник очнулся.
– Другая? Мы давно расстались. Она взяла с меня обещание – никогда больше не искать с ней встречи.
– Вы одиноки, Кестлер?
– Что делать! Большие города – скопища одиноких.
Издали нарастал грохот приближавшегося, поезда. Желтый фонарь возник из-за поворота живым прыгающим глазом; за ним в огнях и лязганье сцеплений выплыл поезд.
– Прощайте, Кестлер! До понедельника!
– До свидания, Алекс!
Поезд тронулся. Я видел, как Кестлер сделал несколько шагов вслед за моим окном, потом остановился и застыл с поднятой рукой.
В большое окно моего офиса по-прежнему смотрятся небоскребы. Как буду я жить без них? Они навеяли на меня столько необычных настроений! Правда, я не остался у них в долгу: я дал им имена, вдохнул в них жизнь, и если подчас они и морщились от моих выдумок, то это, вероятно, из скромности. Они неподвижны. Так ли это? Во всяком случае, в мои наезды сюда я буду внимательно присматривать за ними… Мои сослуживцы устроили мне прощальный обед. Я ожидал этого, так как с утра заметил обычную в таких случаях мышиную возню: Фред с таинственным видом носился по офисам и шепотом договаривался о чем-то с коллегами.
Обед прошел оживленно; горечь предстоящей разлуки никому не испортила аппетита. Не было только Дорис, но я был даже рад ее отсутствию. Мои отношения с ней не имели ничего общего с этим симпатичным сборищем.
Время близилось к трем. Кажется, я со всеми простился, кроме Дорис. Она весь день не покидала офиса, и это обстоятельство будило во мне какое-то смутное предчувствие. Я даже поймал себя на том, что жду момента, когда секретарши уйдут пить кофе, чтобы без помех зайти к Дорис. Этот момент наступил; я осторожно вышел в коридор и, едва чувствуя пол под ногами, стараясь проскочить незамеченным, направился к ней. Нужно ли описывать мое состояние, когда я стал у нее в дверях.
– Хэлло, Дорис! – неуверенно выговорил я. Она подняла голову от бумаг и посмотрела на
меня. Затем нарочито сдержанно сказала:
– Здравствуйте, Алекс! Вы, наверное, зашли попрощаться?
– Да… И еще – выразить надежду, что когда-нибудь вы меня простите… – Я не закончил фразы; Дорис поднялась, прошла к окну и остановилась спиной ко мне. – Я правда очень сожалею… – хотел продолжить я.
Неожиданно она обернулась и, глядя на меня в упор, тихо спросила:
– Хотите, я… приеду к вам?
Я не поверил своим ушам.
– Что… что вы сказали?
– Я приеду к вам… сегодня вечером… если хотите! – Дорис сделала несколько шагов в мою сторону, но остановилась у стола. – Хотите? – нервно и вызывающе переспросила она.
Сердце мое билось, как молот, мне даже почудилось, что я качаюсь от его ударов.
– Хочу ли я, спрашиваете?… О Дорис, даже если это шутка, я буду благословлять вас за нее.
Она не отвечала. В коридоре послышались шаги, голоса.
– Я жду вас, я буду ждать весь вечер, ночь, завтра, я… – Больше я не мог выдержать и, с трудом повернувшись, деревянной походкой вышел из офиса.
***
Нет, я не шел, а бежал, сталкиваясь с прохожими, чудом выскакивая на перекрестках из-под колес машин. В охватившем меня смятении я позабыл о сабвее, автобусе, забыл, куда и зачем бегу. Это было безумие. Да и вид у меня, наверно, был необычный: волосы спадали на глаза, галстук развевался позади, а на лице блуждала идиотская улыбка. Возле Таймс-сквер из-за меня едва не столкнулись машины, и шофер одной обложил меня такой заковыристой бранью, что я наконец пришел в себя. Я погрозил ему кулаком и двинулся дальше шагом.
Понадобилось, однако, еще двадцать кварталов, прежде чем я смог снова управлять мыслями.
…Сегодня вечером… Но как это случилось, чем вызвана неожиданная перемена? Не каприз ли это, не случайная ли прихоть? Я лихорадочно перебирал в памяти все, что мне встречалось на эту тему у Фрейда и Фореля, но все было не то. Неужели она полюбила меня? Я оглядывал себя в зеркальных витринах, но ничто в моей невзрачной фигурке не укрепляло меня в таком предположении. Да и думать последовательно я не мог; мысли то и дело рвались под напором неизведанного блаженства… Она придет… она ясно сказала, что вечером… Она не шутила, она совсем по-другому сказала б, если б шутила!