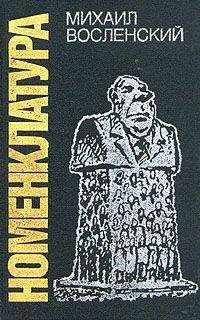Опрашивающий S.K. — инспектор воспитательной колонии города Сугиока.
Воспитанник — ученик шестого класса. Умственные способности: норма.
Воспитанник находится на иждивении матери. Материальное положение: плохое.
Время опроса: 15 октября 1945 года, 14.00–15.00.
Вопрос: Был такой случай, что ты ранил учительницу в классе?
Ответ: Был.
Вопрос: Почему ты это сделал?
Ответ: Разозлился… Потому что она меня унизила. Сказала такое, чего я не смог стерпеть.
Вопрос: Что сказала учительница?
Ответ: Сказала, что такой плохой мальчик, как я, не может стать солдатом, не может стать камикадзэ.
Вопрос: Ты понимаешь, что поступил плохо?
Ответ: (Молчит.)
Вопрос: Ты просил прощения?
Ответ: Нет.
Вопрос: Ты мог бы еще раз ранить учительницу?
Ответ: Нет.
Вопрос: Почему?
Ответ: Потому, что уже нет солдат и нет камикадзэ.
Вопрос: Почему ты с оружием ушел из дому?
Ответ: Я прочел листовку, что в горах Сирояма собирается армия, чтобы начать сражение, и приехал вступить в нее.
Вопрос: Может быть, тебя увлек насильно мальчик, с которым ты приехал?
Ответ: Нет. Кан просто поехал со мной. Он кореец. Он кореец, которому нечего скрываться в горах Сирояма.
Вопрос: Почему сбежал Кан?
Ответ: Ему противно было идти в полицию. Я бы и сам сбежал, да не смог.
Вопрос: Как к тебе попал автомат? Каким образом он оказался у тебя?
Ответ: Когда наши деревенские забили камнями до смерти американского солдата, спустившегося на парашюте, я нашел автомат в лесу и спрятал его.
Вопрос: Староста вашей деревни говорит совсем другое. Он говорит, что не было такого факта, будто в вашу деревню спустился на парашюте американский солдат. Он говорит, что автомат принес Кан из корейского поселка. Разве это неправда?
Ответ: Вранье. Староста деревни врет. Я сам видел, как поймали американского солдата, который спустился в деревню на парашюте, и забили камнями до смерти. Все это знают. Он врет, потому что боится, чтобы не узнали оккупационные войска. Я нашел автомат вместе с парашютом в лесной чаще. Мой брат тоже это знает.
Вопрос: Твоя мать и твой брат сказали, что ничего не знают, а ты…
Ответ: Вранье. Брат и мать врут. Им приказал врать староста или еще кто.
Вопрос: Но ведь и ты должен молчать, если жители твоей деревни, боясь наказания со стороны оккупационных войск, решили скрыть этот факт, правда?
Ответ: А мне все это противно. Я напишу об этом в газеты и на радио. Пусть оккупационные войска накажут их.
Вопрос: Ты хочешь причинить неприятности жителям деревни?
Ответ: Да, хочу. Хочу поубивать их. Всех подряд. Хочу проучить их как следует. Они мне не друзья. Враги. Я их еще проучу. Проучу своих врагов.
Вопрос: Почему жители деревни твои враги?
Ответ: Все японцы — мои враги. Теперь я это понял. Японцы все до одного — мои враги. И я проучу своих врагов. Раздену догола и изобью. Истопчу. Убью.
Вопрос: Тогда тебе незачем жить в Японии?
Ответ: Разве жить не значит уничтожать своих врагов? Я теперь это понял.
Вопрос: Человека, который так думает, нужно изолировать от общества. Если б ты был взрослым, тебя бы посадили в тюрьму. А детей твоего возраста помещают в воспитательную колонию. Твоя мать тоже просит, чтобы сделали это. Ты хочешь в воспитательную колонию?
Ответ: Хотите сажать, сажайте! И вы, и все — чужие мне. Вы мне не друзья — враги. У таких людей просить, чтобы не сажали, — пустое дело.
Вопрос: Воспитательная колония служит для того, чтобы таких детей, как ты, делать хорошими детьми. Видимо, скоро составят новые законы. И воспитательная колония будет становиться все более важным учреждением. Если ты будешь прилежно учиться и станешь хорошим мальчиком, то сможешь выйти оттуда. Ты станешь хорошим мальчиком?
Ответ: Это я быстро докажу, какой я хороший мальчик. Буду врать, вести себя хитро и докажу, какой я хороший, послушный мальчик. Я теперь все понял. Теперь я никому не доверюсь. Буду предавать, выгадывать для себя одного. Так и буду жить. А когда выйду из колонии, всех вас поставлю на колени. Как Гитлер и Муссолини, я один всю страну поставлю на колени! Вы все мои враги. Все в мире мои враги. Всех врагов поставлю на колени. Заставлю голыми ползать у моих ног!
Вопрос: За серыми стенами воспитательной колонии холодно, кормят невкусно, видеться с родными запрещено. Там нет леса и реки, как в твоей деревне. Подумай еще раз. Если ты раскаешься, тебя отпустят домой. Обещаешь стать хорошим мальчиком?
Ответ: Лес и река в моей деревне отвратительны мне. Я теперь понял. Я их не хочу больше видеть. Мне не в чем раскаиваться и не за что просить прощения. Я уже не ребенок. И не хочу снова становиться ребенком.
Часть вторая
195… год. Токио
— Вы, безусловно, тоже хотите добиться успеха в жизни. Вы — первые, кто покидает нашу воспитательную колонию после принятия нового закона о несовершеннолетних. Сегодня к нам приехал один из бывших воспитанников колонии. Теперь, как вы видите по его тужурке, он студент Токийского университета. Этот юноша — живое свидетельство реальности ваших надежд.
Начальник колонии с трибуны улыбнулся мне. Одновременно на меня уставилось триста трудновоспитуемых. Даже укрытый за прочной броней собственного превосходства, я неуютно заерзал на стуле. Запах моря и водорослей, приносимый морским ветром, до боли знакомый запах деревьев и трав, еще не изгладившийся из памяти запах карьера, где добывали глину на кирпичи, — все это взволновало меня, я готов был расплакаться. Но я твердо решил, что ни в коем случае не должен показывать этих так приятных мне чувств тремстам трудновоспитуемым. Это было стыдно, да и вообще могло ранить мое самолюбие.
Опустив веки и задержав дыхание, я приготовился к тому, чтобы резко отбросить от себя белые пушистые семена, прилетающие для того, чтобы сеять добро. «Триста человек, неотрывно следящих за мной, вы — это я в прошлом, и я хочу, чтобы вы испытывали ко мне лишь презрение и ненависть, лишь сострадание к моему иссохшему сердцу». Начальник колонии сошел с трибуны. Я открыл глаза и в ту же секунду почувствовал, как они наполняются бессмысленными слезами. Сердце бешено колотилось. Меня охватил страх. Начальник колонии поощряет меня взглядом. Его огромное безобразное лицо краснеет. Трус, поднимись с гордым видом на трибуну. И я приказываю своему дрожащему телу моллюска, укрывшемуся за плотными створками раковины: «Тебе нечего стыдиться. Тебе нечего бояться. И нечего чувствовать себя опозоренным. Ты должен непоколебимо, как могучий зверь, унизив и растоптав этих сопляков, обратить свою речь через их грязные головы к морю, к сливающемуся с ним небу! Веди себя так, как вели себя владыки, когда ты был ребенком, когда панически боялся враждебности всего мира, который был ограничен для тебя этой колонией. Не чувствуй себя под стать этим молокососам, ждущим твоего слова».
Я поднялся на трибуну. Если бы на ступеньках я споткнулся и упал, то, наверно, покончил бы с собой, бросившись вниз с крутого обрыва, который начинался сразу же за спортивной площадкой, превращенной в актовый зал под открытым небом. И еще я подумал: с трибуны спортивная площадка, казавшаяся мне когда-то огромной, выглядит удивительно маленькой. Триста трудновоспитуемых заполнили ее до отказа, и мне представилось чистой выдумкой, что когда-то я играл здесь в бейсбол. Секунд тридцать я молчал и, удивляясь крохотным размерам спортивной площадки, осматривался по сторонам. Честно говоря, я делал это умышленно. Впервые в жизни я выступал перед незнакомыми мне людьми. И решил — помолчу секунд тридцать, а потом начну. Можно начать хоть с рассказа об этой спортивной площадке. Ладно, будь что будет!
— Я изучаю в университете политические науки. После войны в течение трех лет я находился здесь. Я думал иногда: будь я порешительней, я, наверное, стал бы грабителем. К вашему сведению, в нынешней Японии уже нет ничего общего между политикой и грабежом…
У меня было ощущение, что во мне спрятался визгливый лицемер, выкрикивающий бездарные шутки. В уши ворвалось два голоса — один, шедший прямо из горла, и другой — во много раз усиленный громкоговорителем. Я пришел в отчаяние. Но триста человек заливались смехом, а некоторые даже хлопали в ладоши. Они хохотали и аплодировали тому, что я пренебрежительно говорю о себе и выставляю себя на посмешище. «Нужно продолжать в том же духе», — подумал я, и тут же забыл о своем отчаянии, ко мне вернулась уверенность. Это были первые в моей жизни аплодисменты…