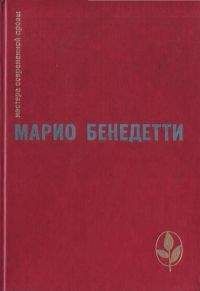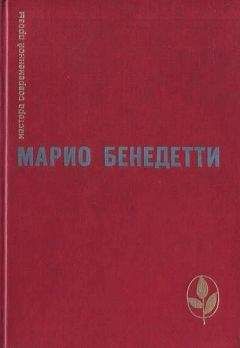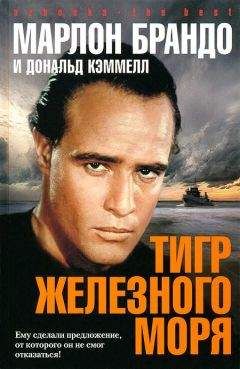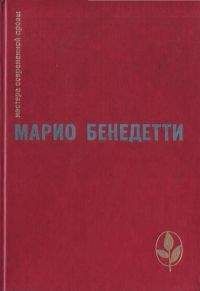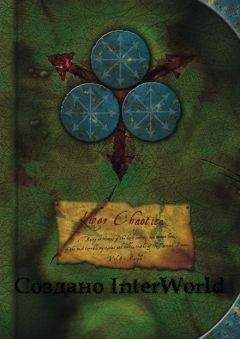— Неужели ты не можешь не ссориться с отцом?
— Но сегодня мы почти не спорили. Конечно, трения всегда возникают. Ты же знаешь, мы с ним очень разные люди.
— Вся беда в том, что ты упрямишься, не уступаешь.
— А он?
— Он старый человек. Не станешь же ты требовать, чтобы он в свои годы изменил образ жизни.
— Сусанна.
— Что?
— Скажи, пожалуйста, как бы ты отнеслась к тому, чтобы переменился я?
— В чем?
— Во всем.
— По отношению к отцу?
— Нет, во всем.
— Я тебя не понимаю, Рамон.
— Понять нетрудно. Например: если бы я закрыл агентство, вернул Старику все, что он мне ссудил, начал бы все сызнова и, конечно, с нуля, без всякой помощи.
— Слушай, Рамон, извини, но сегодня у меня нет настроения шутить. Я уже два дня без прислуги, все хозяйство на мне. Поверь, я очень устала. Извини, что меня твоя шутка не рассмешила.
— Это не шутка.
— Говорю тебе, Рамон, я устала. Даже голова немного разболелась.
— Ну конечно, успокойся. Это была шутка.
— Надеюсь, ты не думал, что я приму ее всерьез.
— Ну да, просто захотелось разыграть тебя. Я агентство не закрою. И деньги Старику буду возвращать в рассрочку, как делал до сих пор. Все будет как всегда.
— Не понимаю, Рамой, что с тобой происходит. Ты говоришь вещи сами собой разумеющиеся таким тоном, будто это какая-то нелепость.
— А может, и нелепость.
— Что ты намерен сейчас делать?
— Приму душ. Почитаю. Выпью виски.
— Когда ужин будет готов, я тебя позову.
— Замечательно.
Да, я готов утверждать: уступчивое благоразумие, желание, чтобы все шло как прежде, — именно это и есть нелепость. Я не герой и ни капельки на него не похож. Стоило Сусанне не поверить, что я говорю серьезно, и я сам перестал себя принимать всерьез. Я не расположена шутить, сказала она, и этого было достаточно, чтобы мои слова прозвучали для меня самого нелепо. Просто я сам знаю, что не изменюсь, что не приму никакого важного, драматического решения. Пока все только в мыслях, пока это игра воображения, я чувствую в себе отвагу, мне чудится, что вот-вот я решусь и сделаю скачок, но, когда приходит время действовать и взять на себя ответственность, тут на меня нападает необъяснимый страх, панический ужас, вроде того, что в детстве, когда мухи превращались в чудовищ или когда мчалась бешеная корова, и в двадцать лет — при виде поезда с глазом циклопа, и в двадцать пять, когда автобус подбросил меня в воздух. Не могу с уверенностью сказать, страх это перед бедностью, или перед опасностью, или перед презрением людей. Возможно, это страх еще менее достойный. Возможно, это просто боязнь неудобств, боязнь лишиться комфорта. Ведь, когда я думаю о том, что жизнь у меня серая, скучная, рутинная, я не забываю, что рутина состоит из многих малозначительных, но приятных вещей. Будь я человеком гениальным, или обладающим властью, или попросту влюбленным, они для меня не имели бы значения, а важным было бы мое произведение, или применение моей власти, или полнота моей любви, но так как в моем случае ничего этого нет, то малозначительные, но приятные вещи становятся перворазрядными стимулами. А именно: машина, мой кабинет здесь, в Пунта-Горда, с хорошей библиотекой и видом на море; эта ванная комната, облицованная зеленой и черной плиткой, с мощными водопроводными трубами и большим смесителем и с объемистой ванной округлых женственных очертаний, ванной, которую мог бы рисовать Матисс; мои безупречные сорочки, мои выутюженные костюмы, мои галстуки из натурального шелка, картины любимых художников в кабинете и Б гостиной; два стаканчика виски перед ужином, терраса дома с немыслимым покоем летнего вечера; моя стереофоническая система с отличными танго, отличными блюзами и отличным Моцартом; фотоаппарат «Роллейфлекс» и к нему красивый чемоданчик с набором фильтров и прочих принадлежностей, которыми я никогда не пользуюсь; художественные альбомы фирмы «Скира», столовые приборы шведской стали. Я люблю, чтобы вокруг меня были красивые вещи. Очень ли это тяжкое преступление? Я бы не хотел иметь деньги для того, чтобы они копились в банке или чтобы стать землевладельцем или спекулировать на бирже. Деньги как таковые меня не привлекают, зато привлекают некоторые предметы, которые за деньги приобретаются. Да, деньги меня привлекают не сами по себе, но только как необходимый посредник в приобретении материальной красоты, этих свидетельств моего вкуса, украшающих лучшие минуты моего отдыха. Когда говорят о социальной справедливости, прежде всего, разумеется, имеют в виду искоренение голода, пристойные и гигиеничные жилища, ликвидацию неграмотности. Но после этих трех неотложных задач надо добавить право человека создавать для себя среду но своему вкусу. Конечно, это не так срочно, как хлеб и кров, однако тоже не должно откладываться на неопределенное будущее.
Как отдыхаешь под теплым душем. Хорошо, что я расширил отверстия в душевой головке, — льется обильный, успокоительный дождь. Огромное удовольствие — стоять себе прямо, запрокинув голову назад, и пять минут, даже не намылившись, отдаваться этому потоку, словно омывающему тебя от всех забот, надуманных угрызений, реальных запретов. Почему я вспомнил про Ромуло? А, таю. Соединились два образа: Риос и пуп. С одной стороны, рассказ бедняги Риоса с прогнозом Ромуло, а с другой — вода, образующая у моего пупа маленький водопадик. Как-то Ромуло поделился со мною одним занятным наблюдением из своего хирургического опыта: «Ты, конечно, знаешь, что перед операцией мы пациента очень тщательно моем; ну, само собой, из стыдливости или еще чего люди стараются являться на подобную процедуру особенно чисто вымытыми, и все же санитарам всегда приходится проверять гигиеническое состояние одного местечка. Я имею в виду пуп. Видимо, люди часто забывают о своем пупе». Случись услышать такое психоаналитику, он бы, наверно, сделал вывод, что человеку хочется забыть о своем происхождении. В этом смысле я о своем происхождении не забываю. Я его признаю и намыливаю. Признаю и ополаскиваю. А теперь пустим холодную воду. После успокаивающего — тонизирующее. Ух, какая холодная. Слишком тонизирует. Все. Эти шорты стали узковаты. Прежде брюшко не торчало. Право, я чувствовал себя лучше, когда был по-настоящему худым.
Приятное виски. Сухое, такое я люблю. On the rocks[120]. За ваше здоровье, дорогая веснушчатая м-с Рэнсом. Вот теперь мне хорошо. Физически хорошо. Надо это отметить, потому что иногда я сознаю, что мне было хорошо, только в тот миг, когда уже начинаю ощущать какое-то неудобство. Как на том ужине в «Текиле»; они поняли, что любят свою маленькую страну, лишь тогда, когда услышали, будто она уничтожена. За исключением Марселы и Ларральде, какое это было сборище глупцов. Почему мы, уругвайцы, когда ступаем на чужую землю, становимся такими пошляками, такими беспардонными хамами? Здесь мы тоже пошляки и хамы, но не в такой степени. Физически хорошо. Хорошо, и ко сну клонит. Неплохо бы чуточку соснуть. Ну что ж, если сон перед обедом — это сиеста осла, то как назвать сиесту перед ужином? Сиеста кого? А я и не знал, что я фавн. Нет, теперь я понимаю, я кентавр. Передние ноги тонкие и неустойчивые, как у той бешеной коровы. Я смотрю на витрины. Вот кентавр-манекен в сорочке wash wear. А вот зеленый светофор, еще пять кентавров пересекают проспект Восемнадцатого Июля. У двоих на крупах по женщине, сидят — будто на мотоциклах. С тех пор как я стал кентавром, я ищу женщину, чтобы нести ее на себе. М-с Рэнсом? Нет, слишком много веснушек, и она берет инициативу. Мне это не нравится. Росарио? Она далеко, к тому же она с кентавром Улиссом Лсокаром. Сусанна? Сусанна в другой витрине, Сусанна-манекен вытаскивает из холодильника — Дженерал электрик» пышнотелую секретаршу, чтобы та занялась нашим планом на зиму. Что-то мне жарко, я весь потный. Средство от пота для кентавров. Где тут аптека? Аптека оказалась в кондитерской, и в дверях стоит улыбается супруга Хавьера, радуясь, что голая, у нее чудовищно огромный живот, но без пупа, и она рассуждает о ревматизме. Как поживает Хавьер, сеньора? Хавьер взял фонарь, чтобы удобней было заполнять картотеку вашего мерзавца папаши, дон Рамонсито. Я не дон Рамонсито, сеньора, я кентавр. Но лицо у вас дона Рамонсито, и еще вы очень похожи на Доктора. Нет, нет, нет. Разве вы не Доктор? Нет, Доктор занимается грязными делами. У вас, дон Рамонсито, тоже грязные подковы. Не может быть. Да, да, у вас грязные подковы и чистые глаза. Это от слез. Дон Рамонсито, вы меня возьмете с собой? Мне нравится ваш круп. Простите, сеньора, но вы безобразны, а я люблю окружать себя красивыми вещами, я для этого сделаю революцию. Тогда почему вам не взять Долли? Она жена моего брата, потому я ее не беру. Я тоже жена твоего брата. Прости, Долли, я не разобрал, я тебя принял за жену Хавьера. Какая чепуха, у нее брюхо и ревматизм, вдобавок она никогда не бывает голой, никогда не снимает сорочку. Ты голая, Долли, и какая же ты красивая. Ты самый лучший кентавр в Латиноамерике. Надо говорить «Латинской Америке», Долли, а так это англицизм. Ты самый лучший кентавр в мире и его окрестностях. И еще у тебя будет сынок с тонкими ножками, такими тонкими, как у той бешеной коровы. Когда? Ко…