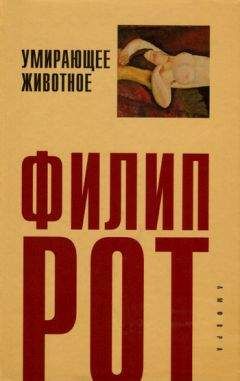— О господи, — вздыхает Консуэла и принимается плакать. — Вот что, — рассерженно продолжает она, — он решил показать всему человечеству на Новый год.
— Несколько гротескно, пожалуй, — осторожно вставляю я. — Но, может быть, у Фиделя Кастро столь своеобразное чувство юмора.
Так ли это на самом деле? Впал ли кубинский деспот в невольную автопародию или, напротив, сознательно смеется над собственной ненавистью к миру «загнивающего капитализма»? Фидель Кастро, решительно осудивший режим своего предшественника Батисты (и свергнувший его) в первую очередь за чиновничью коррумпированность и всеобщую порчу нравов, символом которых как раз и были шикарные отели для иностранных туристов вроде той же самой «Тропиканы», — зачем он затеял этот позорный спектакль, кубинскую версию празднования миллениума? Папа римский на такое не пошел бы: в Ватикане пиар поставлен отлично. Только в Советском Союзе, пока он не рухнул, исповедовали именно такую безвкусицу, именно такую пошлость. У Кастро имелся довольно широкий выбор возможностей из арсенала традиционной пропаганды в духе социалистического реализма: встреча Нового года на сахарной плантации, в родильном доме или на табачной фабрике. Счастливые кубинские рабочие курят гаванские сигары, счастливые кубинские матери кормят младенцев грудью, счастливые кубинские младенцы вбирают вместе с материнским молоком благородный сигарный дым… Но он выбрал пошлейшее варьете для самой невзыскательной публики из числа приезжих! Сознательный вызов, дурацкая ошибка или тщательно продуманная пародия на истерические восторги по поводу ничего не значащей, псевдоисторической круглой даты? Но, какими бы мотивами он на самом деле ни руководствовался, Кастро в любом случае не потратил на это ни гроша. Не потратил ни минуты на размышления. Да и с какой стати великому революционеру Кастро — а впрочем, и кому угодно другому — всерьез ломать себе голову над тем, что, как порой кажется, позволит нам в итоге что-то в этом мире понять, тогда как на самом деле ничего мы не поймем и в третьем тысячелетии, как не поняли ни в первом, ни во втором. Поток времен. Мы плывем, захлебываемся, тонем и окончательно утопаем. Псевдособытие — вот что такое празднование миллениума, псевдособытие, пришедшееся на тот самый момент, когда страдалица Консуэла переживает событие подлинное, величайшее в жизни. Конец Великой Эпохи, хотя никто на самом деле не знает, что кончается, да и кончается ли вообще хоть что-нибудь, а главное, никто не знает, что, собственно говоря, начинается. Абсолютно безумное празднование неизвестно чего.
Известно это одной Консуэле, потому что она теперь знает, что такое старость. Само по себе старение — процесс, который невозможно себе представить, когда не стареешь сам; однако применительно к Консуэле этот неписаный закон уже не работает. В отличие от своих сверстников и сверстниц, она больше не отсчитывает время исключительно от исходной точки. Время для молодого человека измеряется только прожитым, тогда как для Консуэлы вопрос стоит принципиально иначе: а сколько времени мне еще осталось? И ей кажется, что речь идет об исчезающе малой, о пренебрежимо малой величине. С недавних пор Консуэла отсчитывает не прожитое, а предстоящее, и сам этот отсчет производится под знаком смерти. Жертвой пала иллюзия, навеянная метрономом, утешительная мысль о том, что — тик-так — все происходящее с тобой происходит в надлежащее время. Вновь обретенное Консуэлой ощущение времени совпадает с моим; только для нее время летит еще стремительней, еще безвозвратней. Строго говоря, в этом она меня превзошла. Потому что я все еще могу внушать себе: «В ближайшие пять лет я не умру. А может, и в ближайшие десять. У меня ничего не болит, я в прекрасной форме; как знать, не протяну ли я и все двадцать?», а вот она…
Главная, и самая прекрасная, волшебная сказка, которую слышишь в детстве, — это та, что говорит: все в жизни происходит в вековечном, раз и навсегда установленном порядке. Бабушка с дедушкой уходят раньше отца с матерью, а отец с матерью — раньше тебя. А если тебе повезет, все и дальше будет происходить точно так же: люди вокруг тебя состарятся и умрут «строго по расписанию», так что, присутствуя на похоронах, ты каждый раз сможешь найти известное утешение в мысли, что человек, которого провожаешь в последний путь, прожил долгую жизнь. Конечно, сам факт смерти не становится от этого менее чудовищным, чем ты предполагал, знал заранее, однако и здесь, не давая страданию размотаться на всю катушку, срабатывает порожденная метрономом иллюзия: «Имярек прожил долгую жизнь». Но Консуэле в этом смысле не повезло, и вот она сидит со мной, сознавая, что ей уже вынесен смертный приговор, а на экране веселятся и собираются веселиться всю ночь; искусственно нагнетаемая, инфантильная по своей природе истерия; восторженное братание с воистину безграничным будущим людей вроде бы совершенно взрослых, а значит, обладающих безысходным знанием того, что отмеренное каждому из них будущее отнюдь не безгранично, а, напротив, строжайшим образом лимитировано. Но и этой безумной ночью ничье знание не может быть безысходней того, которым наделена Консуэла.
— Гавана, — вздыхает она, и слезы льются из глаз еще пуще. — Я ведь думала, что когда-нибудь побываю в Гаване.
— Ты там еще побываешь.
— Нет. Ах, Дэвид, мой дедушка…
— Что твой дедушка? Я слушаю! Расскажи мне. И вообще не молчи.
— Мой дедушка уселся однажды в кресло в гостиной перед телевизором…
— Продолжай.
Я по-прежнему обнимал ее, когда она начала рассказывать о себе, как не рассказывала никогда раньше, не имея на то причины, начала рассказывать то, что она, не исключено, о себе раньше даже не знала.
— На Пи-би-эс шел вечерний час новостей, — продолжила она сквозь слезы, — и дедушка внезапно вздохнул: «Бедная мама!»
А прабабушка умерла в Гаване уже в его отсутствие. Потому что предыдущее поколение — прабабушек и прадедушек — с Кубы так и не сбежало. «Бедная мама! Бедный папа!» Они остались на острове. Порой на дедушку накатывала печаль, и он начинал тосковать по ним. Чудовищно тосковать, просто-напросто чудовищно. И вот такое чувство владеет сейчас и мной. Только я тоскую по самой себе. Тоскую по своей жизни. Я ощупываю себя, прохожусь руками по всему телу и думаю: это же мое тело! Что же с ним такое? Этого не может быть. Не может быть ни с ним, ни со мною, но почему же эта штука не исчезает? Как мне от нее избавиться? Я не хочу умирать! Дэвид, мне страшно умирать!
— Консуэла, дорогая моя, но с чего ты взяла, будто пришла пора умереть? Тебе тридцать два года. Ты проживешь еще очень долго.
— Я выросла в эмигрантской семье. Поэтому привыкла всего на свете бояться. Ты это знал? Я и на самом деле буквально всего на свете боюсь!
— Ох нет. Мне так не кажется. Боишься всего на свете? Ну, нынешней ночью, допустим, но вообще-то…
— Всего и всегда! Я ведь не виновата в том, что родилась в эмигрантской семье. Может быть, мне такого и не хотелось бы. Но ты растешь, ты становишься старше, а вокруг только и слышно: «Куба… Куба… Куба…» И посмотри только! Посмотри на этих людей. На этот вульгарный сброд. Посмотри-ка на то, что Фидель сделал с Кубой! Но, кроме как по телевизору, я этого никогда не увижу. Я никогда не увижу наш дом. Никогда не увижу фамильный особняк.
— Ну, почему же? Увидишь. Как только Фидель умрет…
— Это я умру, а не он!
— Ты не умрешь. Ты справишься. Только не паникуй. С тобой все будет в порядке, ты останешься жива и здорова…
— А хочешь узнать, что за образ сложился у меня в мозгу? Образ родины? Образ Кубы, преследующий меня всю жизнь?
— Ну конечно хочу. Расскажи мне об этом. Постарайся успокоиться, а потом расскажи мне все. Хочешь, я выключу телевизор?
— Нет, не надо. Нам наверняка покажут что-нибудь получше. Они там, на острове, просто обязаны показать нам что-нибудь получше.
— Расскажи мне, что за образ Кубы сложился у тебя в голове, Консуэла.
— Это не пляж, отнюдь. Вот для моих родителей Куба — это прежде всего песчаные пляжи, на которых они резвились маленькими детьми, а взрослые господа и дамы сидели по всему берегу в шезлонгах, потягивая коктейли. Каждое лето бабушка с дедушкой снимали виллу на берегу, но этими воспоминаниями я, разумеется, обделена. Мой образ Кубы совершенно иного рода. И ныне, и присно, и во веки веков. Ах, Дэвид, они ведь похоронили свою Кубу задолго до того, как им самим пришла пора удалиться в мир иной. Похоронили ее поневоле. Мой отец, мой дедушка, моя бабушка — все они, покидая Кубу, прекрасно понимали, что больше никогда туда не вернутся. И действительно так никогда и не вернулись. А теперь, получается, никогда не вернусь и я.
— Вернешься, — заверил я ее. — Но что же это все-таки за образ? Расскажи мне. Расскажи.