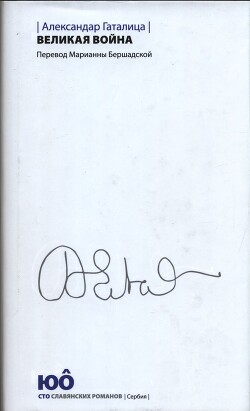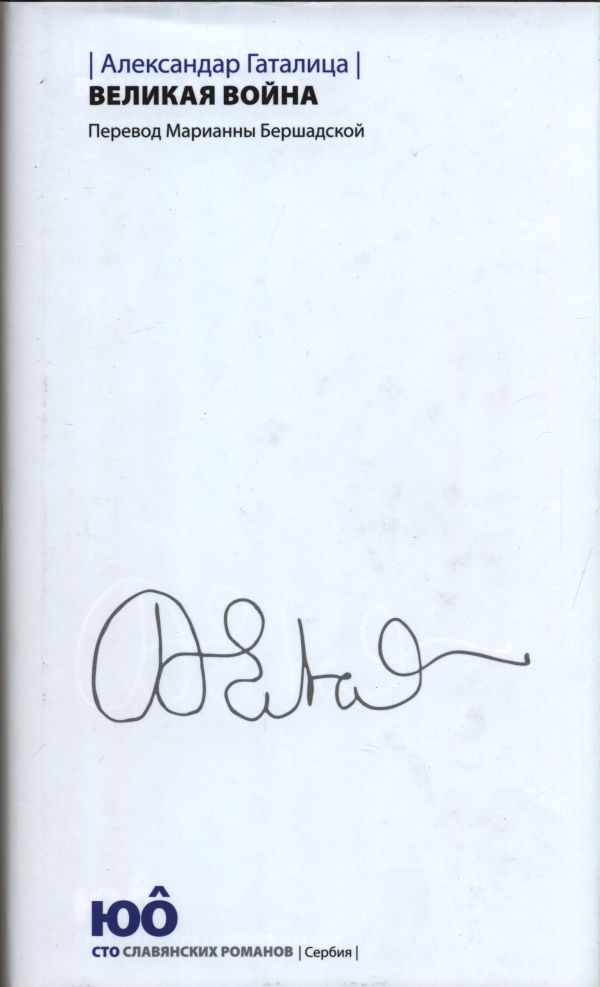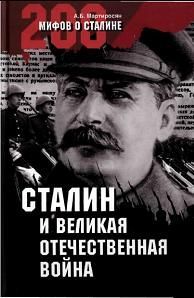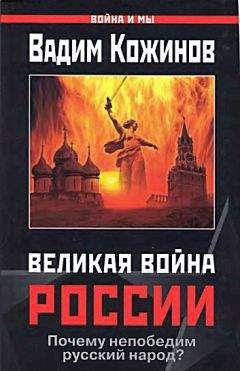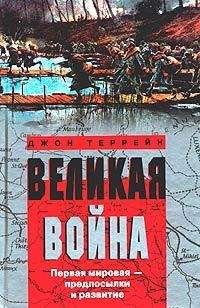Ризанов долго увиливал от ответа. Объяснял это тайной рецептуры. Переводил разговор на другую тему или превращал разговор в шутку. Но его друзья, как настоящие римляне уже блевавшие после пира, поскольку их съежившиеся желудки не могли вынести столько мяса, продолжали допытываться. «Послушай, Борис Дмитриевич, — сказал один из них, — самое мягкое мясо в желудке собаки — чье оно было? Ты, что ли, припрятал каких-то кротов или хорьков?» До полудня русский Трималхион увиливал от ответа, но в тот момент, когда уже казалось, что он загнан в угол и вынужден признаться, началась артиллерийская канонада, ставшая началом конца русского 20-го корпуса. Пули свистели, как дрозды. А над импровизированным «дворцом патриция», где происходило пиршество с фаршированным конем, разорвалось несколько гранат крупного калибра, солдаты называли их «корзинка с углем». К полудню все было кончено. Сто тысяч русских солдат сдались немцам, Борису так и не пришлось выдать свой секрет.
Еще раз или два в деревянном бараке под Кёнигсбергом, где немцы вначале содержали русских военнопленных, Борис Дмитриевич собирался сказать товарищам, что они ели своих собратьев, но тогда у всех выживших хватало забот похлеще прежних, к тому же солдаты, присутствовавшие на «пиру Трималхиона», вспоминали о нем так по-доброму, что филолог-мясник не видел причины портить им эти впечатления, ведь только они и помогают выжить в плену.
О печальной и вместе с тем героической судьбе 20-го корпуса сразу же доложили главнокомандующему русскими вооруженными силами великому князю Николаю. Он провел ночь не в каком-нибудь реквизированном доме рядом с теплой печкой. Нет, он заставил себя, своего любимого начальника штаба Янушкевича и большую часть Генерального штаба русской армии ночевать в палатках при тридцатиградусном морозе. Палатка князя находилась в каком-то чернолесье между Гродно и Белостоком. Здесь главнокомандующий русской армией принимал ежедневные сообщения и отдавал приказы командирам; в палатке он ел и пил чай, подслащенный сахарином. Ему было невероятно холодно, но он ни единым мускулом лица не показывал этого своим подчиненным. Он представлял себе, что находится на даче, в русской бревенчатой бане, где вода, испаряясь на горячих камнях, заставляет его потеть.
Он каждое утро выходил, такой высокий, голый до пояса, и растирался снегом. Потом садился на пень и смотрел вдаль. Его не беспокоило, что сегодня минус тридцать пять, что с каждым днем температура становилась все ниже, достигнув минус тридцати восьми 25 февраля 1915 года. Только офицеры из близкого окружения могли заметить, что в руке он держит за рукоятку нечто невидимое. Это невидимое «нечто» великий князь поворачивал так, словно каплю за каплей выливал что-то на сверкающий, почти сухой снег. Потом он неопределенно улыбался, глядя в направлении лесов, где остались сто тысяч его попавших в плен солдат, или поворачивал голову, и его взгляд устремлялся на северо-восток, как будто он с высоты своего исполинского роста — взглядом летящей птицы — мог увидеть столицу с заледеневшей дельтой Невы и Эрмитажем, дворцовый балкон, с которого царь Николай шесть раз прокричал «ура-а-а», призывая свой народ на Великую войну…
Потом главнокомандующий вставал и с тяжелым вздохом шел надевать военную форму. Нужно было что-то предпринять. Сто тысяч солдат попали в плен, но русские армии перегруппировались и пошли в контрнаступление в районе Осовца и в направлении Пьянишле и Полонска. Каждое утро великий князь направлялся к своей «парной» перед палаткой. Потел на морозе и растирался снегом. Ему казалось, что этот ритуал помогает русской армии. Однажды ему доложили, что отбиты атаки на левом берегу Вислы, на следующий день — что войсковые части продвигаются вперед под Витковицами и южнее Равки, на третий — что под Болинеком остановлено немецкое наступление. Наконец ему сообщили, что пал упорно оборонявшийся Перемышль, выдержавший, как античный Илион, годовую осаду. Только тогда великий князь перестал растираться снегом, да и зима 1915 года наконец-то немного смягчилась.
Это потепление не понравилось фельдмаршалу, воевавшему на противоположной стороне. Его раздражало, что битва при Мазурских озерах не превратилась в триумф его армии и особенно то, что пала осажденная крепость Перемышль. Имя этого фельдмаршала было Светозар Бороевич фон Бойна. Все в этом офицере свидетельствовало о том, что его интересует только война. В его осанке, взгляде не было ничего, кроме безусловной воинской дисциплины. Маленькие, абсолютно спокойные глаза могли с таким упорством сосредоточиться на какой-то точке лица собеседника, что перед ним опускали взгляд не только все генералы, но и сам император. Светозар Бороевич был потомком сербских военных переселенцев, сыном Банийского граничарского [17] полка, где служил когда-то его отец Адам Бороевич. То, что его воспитала скорее армия, чем его мать Стана, то, что молоком военной службы его поили простые и решительные граничары, могло сделать из него только солдата и никого другого. По служебной лестнице он продвигался с молниеносной скоростью. С 1905 года Бороевич становится венгерским дворянином с добавлением имени фон Бойна, генералом австрийской армии он стал еще в аристократическом девятнадцатом веке. А когда перед Великой войной в объединенных военных маневрах в Боснии он победил войска германского императора Вильгельма, то получил за это звание фельдмаршала.
Светозар фон Бойна общался со многими, но мало кто знал его по-настоящему, поскольку фельдмаршал считал, что командующий должен всегда оставаться в одиночестве. Поэтому никто и понятия не имел, что фон Бойна все делает дважды. Но это, вероятно, не является чем-то удивительным. В нем уживались два человека: православное сердце билось в такт с австрийским военным сердцем, преданным только императорской короне. И все-таки сербские слова пересиливали в его уме немецкие, а некоторые воспоминания о скромном родительском доме в Банийе никак не сочетались с видами дворца, где он обычно пребывал. Поэтому у фельдмаршала все было в двойном количестве. У него было два ординарца, две штабные локации, так что и в битве у Мазурских озер он отдавал приказы с двух командных пунктов, а офицеров своего штаба он всегда размещал в двух местах. У фон Бойны было два коня, два комплекта военной формы, два комплекта копий орденов (настоящие он хранил дома) и две пары форменных сапог, которые он по вечерам чистил сам.
Однако что в этом было необычного? Светозар Бороевич никогда не надевал две пары сапог, не ездил одновременно на двух конях и никогда не надевал на себя сразу два мундира с одинаковыми наборами копий воинских наград. Одна пара сапог, один мундир и один конь предназначались для того Светозара, который жил на дне его горькой души: того, кто не может умереть, и поэтому должен жить. Но этот второй — или лучше сказать — первый Бороевич был всего-навсего фантомом, не имеющим ни плеч, ни ног, ни желания сесть на коня, тем не менее у него должно было быть все…
Таким он был и на войне. Настоящее чудо — об этом знал только он, — что никто раньше не заметил его шизофренической природы и что она не мешала предназначенному ему великому служению. Фон Бойна считал, что ему просто повезло. На маневрах у него всегда было две цели, и он мог выбирать одну из них; армию он всегда в последний момент направлял по одному из двух одинаково хороших маршрутов. Так все это и шло год за годом. Самый большой экзамен его двойственность выдержала в предыдущий год войны, когда он командовал 6-м корпусом и когда ему было приказано снять осаду с крепости Перемышль.
Почему город Перемышль и его укрепленная крепость оказались настолько важны? Эта крепость стала символом немецкой храбрости и выдержки. Во время наступления в Галиции русские выиграли сражение за Львов и отодвинули фронт на сто шестьдесят километров, вплоть до Карпат. Крепость Перемышль единственная сопротивлялась до 25 сентября 1914 года, хотя и оставалась глубоко в русском тылу. Поэтому оборона города, похожего на орлиное гнездо, в которое набилось сто тысяч немецких солдат, стала для германского командования особенно важной. И более того, немецкая Троя была на устах каждого солдата, а командовавшего обороной крепости Германа Кусманека называли германским Приамом. Так что Перемышль было необходимо защищать и доставлять осажденным все необходимое, ибо народ, настолько любящий классические образцы, не мог допустить, чтобы и его Троя тоже пала…