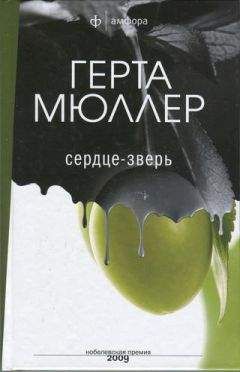Из-за шрама на большом пальце Курт показался мне похожим на Чертово Чадушко.
— Через несколько лет после Гитлера все они оплакивали Сталина, — сказал Курт. — И с тех пор помогают Чаушеску разводить кладбища по всей стране. Мелкие доносчики не стремятся к высоким партийно-чиновным должностям. Их можно использовать без всяких там церемоний. А члены партии могут пожаловаться, если предложат доносить. По сравнению с беспартийными у них больше возможностей оказать сопротивление.
— Если они этого хотят, — заметила я.
Я с ненавистью смотрела на грязные ногти Курта, так как даже в них было недоверие к Терезе. И с ненавистью — на его скривившийся рот, потому что он меня почти убедил. Даже отрывающуюся пуговицу у него на рубашке я ненавидела — за то, что она висела на нитке.
— Как же надо постараться, чтобы стать таким политически зрелым, как ты, — сказала я.
Оторвав эту болтающуюся пуговицу, я выдернула из нее нитку и сунула в рот. Курт хотел шлепнуть меня по руке, но промазал — оплошал.
— Тебя послушать, так все дело в четкости и определенности, но ты просто всех подозреваешь, — сказала я, чувствуя на языке нитку и зажав в ладони пуговицу. — Однако фотографии ты позволяешь держать у Терезы.
— Ну, этой-то ничего не сделают, если найдут их у нее, — отмахнулся Курт.
— Думаешь, раз ты никому не доверяешь, то и тебя никто не раскусит, — продолжала я.
Курт поглядел на портрет свежей покойницы, на ее платье с оборками и летний зонтик.
— Нет, — сказал он. — Пжеле теперь глаз с нас не спускает.
Я раскусила нитку и проглотила.
— Разве кто-нибудь на свете выбирает себе отца? — спросила я.
Курт сидел, обхватив голову руками.
— Есть люди, которые порвали с отцом, — сказал он.
Я спросила:
— Кто?
Он забарабанил пальцами по пустому столу, звук напоминал тюканье курочек по зеленой доске. Каждый палец выбивал из деревяшки свой, особый, звук.
Я подумала: мы знаем друг друга настолько хорошо, что друг без друга уже не можем обойтись. А ведь легко могло случиться, что каждый из нас нашел бы себе других друзей, если бы Лола умерла не в шкафу.
— Пойди к зубному, — сказала я. — Тебе завидно — ведь нам-то никто не может помочь.
Курт ответил:
— Вот и ты понемногу впадаешь в детство.
Потом же сам чисто ребяческим просительным жестом протянул мне ладонь. Но я сунула пуговицу в рот:
— Пусть остается у меня, ты потеряешь. — Пуговица постукивала о мои зубы.
— Где куриная маета? — спросил Курт.
Я написала маме о своем увольнении. Это письмо она получила уже на следующий день. А еще через день пришел ответ: «Знаю, односельчане мне сказали. В пятницу приеду в город утренним поездом».
Я написала ей: «Слишком рано, я не смогу встретить тебя на вокзале. В десять часов буду ждать у фонтана».
Никогда еще письма не доставлялись так быстро.
Мама приехала в город рано утром. Мы встретились у фонтана. На обеих руках у мамы висело по корзине, пустой; возле ног стояла сумка, полная. У фонтана мама поцеловала меня, даже не поставив корзины на землю.
— Всё, отоварилась, — доложила она, — осталось только банки купить, стеклянные, для заготовок.
Я взяла тяжелую сумку. Мы пошли в магазин. Ни о чем не говорили. Если бы я несла одну из одинаковых пустых корзин, прохожие, наверное, сообразили бы: вот идут мать и дитя. А так они то и дело проскакивали между нами, промежуток был достаточно широкий.
В магазине мама купила пятнадцать стеклянных банок под огурцы, сладкий перец и свеклу.
— Как же ты все это одна потащишь? — спросила я.
— А тебя тут никто не держит, — сказала мама. — Ни фабрика, ни муж. Все село уже знает, что тебя уволили.
— Банки для овощей сама понесу, а ты бери те, что для компотов, — распорядилась мама.
Она купила еще семнадцать банок под сливы, яблоки и айву. Подсчитывая все эти овощи и фрукты, она наморщила лоб — три борозды, точно грядки. Подсчитывая, она должна была перебрать в голове все грядки и все деревья в саду, чтобы ничего не позабыть. Банки, которые продавец тут же выставил на прилавок, все были одинаковые.
— Они же все как одна, — заметила я.
Продавец заворачивал банки в бумагу.
— Конечно все как одна, — сказала мама, — но, кажется, это не запрещено — сказать, для чего покупаешь банки. Надо и бабушку в расчет взять. Зимой, когда пойдут в ход консервы, она ведь будет дома жить. А ты вот не возвращаешься в родной дом. Народ в поезде судачил — я всё слышала, — будто бы ты на третьем месяце. Те люди меня не видели, я сзади сидела. А другие, что рядом со мной сидели, они тоже всё слышали, — так вот, они сидели и смотрели в пол. А мне под скамейку забиться хотелось.
Мы пошли в кассу. Мама поплевала на пальцы и отсчитала деньги.
— Нечего глазеть, — сказала она, — у того, кто трудится, руки шершавые.
Мама опустила корзины на землю, расставила ноги и, подняв кверху зад, возилась с банками.
— Хоть бы раз в жизни ты подумала, что матери за тебя краснеть приходится! — сказала она.
Я закричала:
— Оставь меня в покое! Если еще хоть слово скажешь — всё, никогда больше не увидишь меня!
Мама ошарашенно замолчала, потом тихо спросила:
— Сколько там у нас времечка?
На ее запястье болтались мертвые часы моего отца.
— Зачем ты их носишь? Они же не ходят, — сказала я.
— А кому это видно? У тебя вон тоже часы есть.
— Мои идут, — возразила я. — Иначе не носила бы.
— Когда у меня на руке часы, — сказала мама, — я лучше понимаю время, хоть и не ходят они.
— Тогда зачем спрашиваешь, сколько времени?
— Затем, что ни о чем другом с тобой не поговоришь, — отрезала мама.
Фрау Маргит вздохнула:
— Nines lóvé, nines muzsika[11], но что ж поделаешь, если пока что у тебя нет денег платить за комнату. Два месяца подожду. А там Бог тебе поможет. Да и я одна не останусь. Непростое ведь дело найти девушку — немку или венгерку, а других я в свой дом не пущу. По рождению ты католичка, придет время — будешь молиться, не сомневайся. У Бога времени много, не то что у людей. Бог каждого из нас сразу видит, как только мы родимся на свет. Это у нас уходит много времени, прежде чем мы узрим Бога. Когда я была молодая барышня, я тоже не молилась. Я понимаю, почему ты не хочешь вернуться в деревню, — сказала фрау Маргит. — Там живут только корявые. В Пеште, если кто-нибудь не умел себя вести, говорили: «Ты из деревни».
Фрау Маргит однажды решила купить на рынке свежего сыра. Сказала торговке: «Очень дорого», — и отщипнула с краю кусочек, попробовать. И тут крестьянка завопила: «Чего хватаешь, руки-то грязные!»
— А я за день руки столько раз мою, сколько эта крестьянка за целый месяц. Сыр был кислый, как уксус, — сказала фрау Маргит.
— Я слышала, — сказала фрау Маргит, — многие крестьяне подсыпают муки, когда варят сыр. Великий грех перед Богом, а все же возьму на душу, скажу, да Бог и сам это знает: среди крестьян не найдешь ни одного изящного человека.
«Фрау Маргит будет гладить меня по головке, потому что я задолжала за комнату, — сказала я Терезе. — Она присвоила себе это право. Будет требовать от меня добрых чувств, потому что не получает денег за комнату. Если я раздобуду денег, ее руки не доберутся до моей головы».
Тереза нашла для меня урок немецкого языка. Три раза в неделю я должна была приходить домой к двум мальчикам. Отец их — старший рабочий на меховой фабрике. Мать домохозяйка. «Она сирота, — рассказала Тереза. — Мальчики слабовато соображают. Отец зашибает хорошие деньги, остальное пусть тебя не волнует».
Тереза познакомилась с этим скорняком-меховиком и его детьми в бассейне. «Дети привязчивые», — сказала она. Когда Тереза пошла одеваться, отец мальчиков объявил: «Мы тоже идем домой».
Но потом, уже из раздевалки, отослал детей еще поплавать, а сам нырнул в кабинку к Терезе, как был, в мокрых плавках. Засопел, схватил ее за грудь. Она его вытолкала. Запереться там нельзя было, задвижка сорвана. Так он все топтался возле кабинки — Тереза видела его босые ноги в щели под дверцей. «Я так сразу и подумал, что ничего не получится, — признался он. — Считайте всё шуткой, я никогда еще не изменял жене. — И крикнул: — Эй, сюда!» Тереза услышала, как мокрые детские ноги прошлепали по каменному полу. Когда она вышла из кабинки, Меховик был полностью одет. Он сказал: «Да подождите вы, дети-то чем виноваты. Сейчас они оденутся и выйдут».
На лестнице я услышала крики, где-то на четвертом этаже. Как раз там находилась квартира, где мне предстояло давать уроки. Когда я поднялась туда, оказалось, стучать не во что — дверь квартиры кто-то снял с петель. Она стояла на площадке, у стены. Из квартиры валил дым.
Меховик пускал слюни, язык у него заплетался. От него несло водкой.