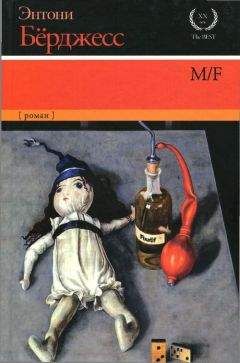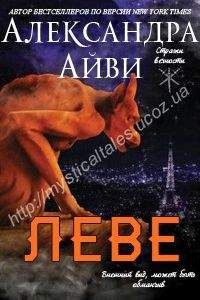Ознакомительная версия.
Почти детский стишок, скомканный, неумелый. Но там были и более свободные вещи, которые я жадно читал, пока свечи кротко подчинялись законам геометрии и химического растворения, и тем не менее продвигались к своим собственным восковым абстракциям.
13
Я читал песнь четвертую длинной эпической поэмы в стиле пророческих книг Блейка, в которой многочисленные призрачные великаны быстро меняли кофейники под стремительные смены настроения. По-моему, очень захватывающе. Свечи уже почти догорали в лужицах влажного воска. Вообще по уму, стоило бы забрать эту поэму — или какую-нибудь другую — наверх в мансарду и почитать с удобством в постели. Но я напомнил себе, что это был вечер предварительного общего ознакомления, тем более что я все равно бы не смог перетащить в дом все, что есть. На самом деле это была физическая инертность. Она дополняла интеллектуальный восторг и заставляла меня терпеть и гнилостное зловоние, которое никак не облегчил дым «синджантинок», и боль, поселившуюся в моих тощих костлявых ягодицах от сидения на ящике из-под минеральной воды. Я не обращал внимания на крики пьяниц, покидавших таверну, хотя, услышав глухой удар и грохот захлопнувшейся двери, на секунду задумался: уж не Эспинуолл ли, разочарованный и упившийся в хлам, грузно грохнулся на мостовую. Здесь, у меня, Ламан бранил Роша, и это было гораздо реальнее:
Пустоголовый гнусный дрыщ, отрыжка жеребцов
В асафа с кентигерном, твой абак опал, твое бревно
Втупилось в двойника бартлета…
Мне казалось, я действительно слышу скорбные возгласы Раша и хриплый голос Ламана. Поразительно. Звук шел от страницы, словно из какого-то чудесного электронного приспособления, но он не затих, и когда песнь закончилась, и Ламан ускакал, оседлав долото, в эмпиреи, которые были клаузулой и опопонаксом. Я поднял голову. Шум доносился из дома.
Шум в доме. Беда. Грабители. Полиция. Мисс Эммет дает отпор, но оружие вырывают у нее из рук, оно со звоном падает на пол, мисс Эммет визжит. Я неохотно выбрался из сарая, злясь на это вторжение скучного и жестокого мира. Увидел свет, беспрепятственно льющийся из незанавешенных окон трех этажей, выходящих на задний двор. Шум доносился откуда-то сверху. Я прошел, оступаясь на битых стеклах и цепляясь за ежевику, к парадной двери. По дороге заметил, что на улице пусто. Никаких полицейских машин. Дверь не открылась: фиксатор замка убрали. В гостиной было подъемное окно, сейчас опущенное до конца. Но старая рама рассохлась, две детали металлической щеколды разошлись и уже не сходились как следует. Я приподнял раму на дюйм, потом просунул в щель пальцы, потянул вверх, и окно со свистом открылось. Я забрался в темную гостиную, где пахло ванилью и потом. Телевизор, успевший нагреться за долгий вечер, потрескивал в своем тесном деревянном корпусе. Свет где-то там, дальше. Я прошел по коридору, заглянул в кухню, увидел мисс Эммет, полностью одетую, сладко спящую на стуле за кухонным столом. Похоже, вино сделало свое дело. Значит, с ней все в порядке. Это Катерина попала в беду. Я слышал ее крики, крики попавшей в беду девчонки, и голос мужчины, творившего эту беду. Ну, если это была беда. Откуда мне знать, может быть, этот ее добрый доктор прописал ей еженощные драки с мужчинами, за которыми следует полная капитуляция. Хотя это, конечно, маловероятно.
Я взбежал вверх по лестнице на второй этаж — ванная, пустая спальня, наверное, спальня мисс Эммет, обе двери открыты, на площадке у лестницы горит свет. Я поднялся еще на этаж и там обнаружил источник шума. Дверь была закрыта, но не заперта. Я распахнул ее, и новые впечатления значительно обогатили, а потом изменили мои представления о сестрице. Комната Катерины, если мне будет позволено вкратце ее описать, очень точно характеризовала хозяйку. Оформление отвечало стилистике, дошедшей через третьи-четвертые руки, поскольку сама Катерина не имела контакта с непосредственными влияниями, вдохновляющими ее легковозбудимую возрастную группу. На одной стене — Че Гевара и афиша корриды в Альхесирасе от сентября 1968 года. На другой — У. К. Филдс, покойный американский комик тридцатых годов, с носом картошкой, пьяница и мизантроп, ненавидевший детей, но ставший, пусть и ненадолго, молодежным кумиром, может быть, из-за его бесшабашности (он, например, никогда не учил текст ролей) и утомительно плоских острот. Был там и Хамфри Богарт, страшный как смертный грех, но, как я всегда признавал, на удивление привлекательный дядька, величайший киноактер с характерной легкой шепелявостью. Еще имелся огромный плакат в стиле поп-арта, чьи кричащие желтый и синий цвета были как вопиющая непристойность, а композиция — вялой, как пенис двухлетнего малыша: концентрические круги и строчные буквы готического шрифта, представленные как асимптоматические артефакты в откровенно безграмотном ликовании. Присутствовал и непременный проигрыватель с разбросанными пластинками и конвертами: «Наказание розгами», «Проказница Ди-Ди», «Некто и Филия» — и т. д. Грязное белье разбросано по всей комнате. Ощутимо воняло туфлями, чулками и старой едой, щедро политой томатным кетчупом. На комоде красовалось почти два десятка полупустых бутылок с лимонадом, расставленных с какой-то чуть ли не извращенной аккуратностью; большинство ящиков было выдвинуто, мятая одежда торчала наружу, две чашечки бюстгальтера (видимо, зацепившегося застежкой за шерсть свитера, почти полностью вывалившегося из ящика) напоминали миниатюрные ветроуказатели. Тем более что окно спальни было слегка приоткрыто и в комнату задувал ветерок, так что сравнение было оправданным.
Постель расстелена на односпальном диване с пестрой фактурной обивкой (с ярким, аляповатым вышитым узором: красные листья, зеленые пагоды, оранжевые попугаи); днем, в собранном виде, он, надо думать, служил предметом декора. В постели была Катерина в не совсем свежей ночной рубашке, собранной в гармошку на талии в некоем подобии камербанда стараниями мужчины, который, как я теперь распознал, был скорее насильником, нежели любовником. Ее большие, дрожащие как желе сиськи были вывалены наружу, и мужчина целовал их поочередно в лихорадочном быстром ритме. Со стороны это смотрелось так, словно он исполнял головой балет, ну, скажем, под симфонию Гайдна «Часы». Катерина это ему позволяла, потому что обе ее руки были заняты: отбивали попытку атаки снизу. Хотя отбивалась она как-то слабо, уж не знаю почему. Возможно, борьба продолжалась значительно дольше, чем я думал. Мужчина был полностью одет, только ширинка расстегнута, словно он находился в сортире, а не в будуаре. Одной рукой он тщился направить проникновение, до сих пор безуспешное, а второй — весьма цинично, в свете балета под Гайдна — пытался придержать Катерину посредством каких-то шнурков-поясов, зажатых в кулаке. Разумеется, это был Ллев.
Катерина заметила меня первая, и вид точной копии насильника, застывшей в дверях в позе несомненного довольства, придал ей силы для новой порции воплей. Возможно, довольство было неизбежно, потому что Катерина несла наказание за дерзость быть моей неприятной, противной сестрой, хотя это было не то наказание, которое лично я счел бы подходящим для такого проступка. Когда я увидел, что это Ллев, мои первые удивленные мысли о том, как он вообще умудрился пробраться сюда и сделать то, что делал, были оттеснены, словно начало очереди, отодвинутой дородным швейцаром, пропустившим вперед благоговейное принятие некоей высшей уместности этой сцены: что именно Ллев выступил в роли того, кто доставит моей сестре либо боль, либо наслаждение. В каком-то смысле эти двое были предназначены друг для друга, и «Отрубленная голова» или какая-то другая подобная группа могла бы сделать из этого песню с хрипящими модуляциями и истерзанными гласными звуками. Очередь по-прежнему не продвигалась, поскольку первый благоговейный трепет сменился другим, в высшей степени мистического или метафизического порядка. Мой отец был, вне всяких сомнений, безумен. И было ему безумное видение. Ему представилась дочь, подвергавшаяся сексуальному домогательству человека с моей наружностью, и он ошибочно принял его за меня. Безумие, как и большое искусство, прет напролом сквозь чащобу пространства и времени, прорубая себе дорогу ментальным парангом. Как Сиб Легеру, чуть не подумалось мне, но я вовремя остановил эту мысль — во времени и пространстве.
Сейчас кто-то из этих двоих должен был заговорить со мной, но сначала Лльву следовало устыдиться, спрятать свое орудие и слезть с постели с видом побитого пса, поджав хвост между ног, в прямом смысле слова. Но все всегда происходит не так, как представляется нам уместным или даже вероятным. Ллев узнал меня и ни капельки не удивился. Скорее он был доволен моим появлением и кивнул мне, как будто мое здесь присутствие давало простое правдивое объяснение (и это было действительно так) тому, как он сам здесь очутился, и благодаря моему приходу, наверное, все-таки понял, что нам таки надо закорешиться, хотя раньше открещивался как мог, а теперь я появился очень вовремя, чтобы по-дружески ему помочь.
Ознакомительная версия.