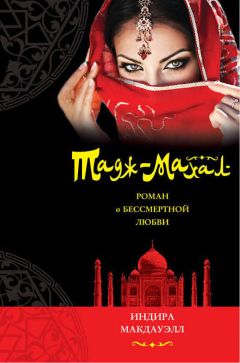Короче, исполнительному директору, чтобы пообщаться с незнакомцем и при этом не испортить дела, нужен был посредник, менее незнакомый для совенка, уже устоявшийся в сознании; Гера, посредник по натуре, на эту роль отлично подходил. Вместе они разыграли несколько финансовых этюдов; Гера, мало понимая, открывал какие-то банковские счета, тут же приходившие в движение и уподоблявшиеся в его уме тем жутковатым бассейнам со многими вливающими и выливающими трубами, с которыми он никогда не умел справляться на уроках арифметики. Непонимание привело к тому, что Гера, следуя своему естественному инстинкту, захотел иметь в ЭСКО поддержку: боевую подругу. Работавшие там четыре подтянутые женщины, сходные между собою покроем костюмов и самой походкой, несколько механической из-за обязательных в офисе каблуков, не понимали дружеских чувств. Вика, поскольку с инвалидным предприятием ничего не вышло (не из-за стараний Антонова, а просто потому, что у Тихой как-то не составилась послушная медкомиссия), осталась Гере должна. С водворением Вики в офисе ЭСКО у Геры появился там как бы собственный стол, возле которого он неизменно ставил свой хорошо набитый портфель, а стоило Вике отлучиться — прочно садился на хозяйское место и запускал на компьютере любимую игрушку.
На этот раз Антонов не возражал против Гериных деловых инициатив. После выписки и свадьбы (окончившейся ночью первым и единственным конфузом Антонова) разленившаяся Вика оформила академический отпуск. Тогда и начались шатания по подругам; вошли в обычай поздние появления с эскортом из одного, а то и двух молодцеватых негодяйчиков, с какими-нибудь скверными цветами, скрывавшими около самых зрачков, независимо от вида и сорта, дурную козлиную желтизну. Тогда же в полную силу явился перед молодоженами денежный вопрос.
Только теперь до Антонова дошло, что его доцентская зарплата рассчитана на сутки жизни “нормального человека”. Умом Антонов понимал, что должен был обо всем позаботиться заранее: еще до свадьбы найти репетиторство или переметнуться в какой-нибудь частный, очень платный вуз. Но даже и теперь, задним числом, забота о деньгах казалась Антонову несовместимой с чувством, которое он познавал и обустраивал с самого столкновения в дверях аудитории номер триста двадцать семь. В сущности, он проделал колоссальную, в каком-то смысле научную работу, которая и привела к результату — свадьбе; если бы он при этом занимался материальным обеспечением, то есть подготовкой места для будущей жены, сама фигура кандидатки сделалась бы абстрактной и теоретически могла бы произойти подмена: место, то есть пустота, означало не обязательно Вику, а Антонов понимал, что, если бы Вика выскользнула из его кропотливых построений в готовые объятия одного из юных Наполеонов, он бы навсегда остался плавать в незаполняемом коконе этой пустоты. Антонов просто вынужден был следовать за Викой, подстраиваться под нее, совершенно отсутствуя в собственной жизни, так что даже комната его по виду и по запаху сделалась нежилой: заброшенные книги наливались холодом, тут и там неделями не мытая посуда выдавала присутствие как бы нескольких обитателей, из которых ни один не являлся настоящим и полным Антоновым, а случайные следы на пыльных поверхностях засеребрившейся мебели напоминали кошачьи или птичьи. Теперь, в заплесневелой квартире французской старухи, все постепенно проветривалось, старухин мусор, пересыпанный пожелтелым пшенным бисером и вощеными бумажками от аптечных порошков, был заметен и вынесен на помойку, какой-то реставратор с коричневой бородкой, похожей на кусочек вареного мяса, радостно скупил тяжелых мебельных уродов и увез их вместе с молью и шерстяной слежавшейся трухой. Быт, как ни странно, налаживался; рукава домашнего халатика жены всегда были сырые от уборки и стирки. Но денег катастрофическим образом не хватало на жизнь; все для Антоновых дорожало словно бы еще быстрее, чем это реально происходило в магазинах: стоило разменять какую-нибудь крупную купюру, как пестрая сдача утекала неизвестно на что, буквально растворялась в руках, и приходилось шарить по карманам зимней и летней одежды, чтобы насобирать монеток на столовский обед.
Теща Света, трагически счастливая, проявлялась самое меньшее раз в четыре дня. Она выгружала из хозяйственной сумки скользкие булыжники мороженого мяса, полные мешки свисающих сосисок, стопы консервов из Гериных запасов, еще какие-то коробки и кульки; набив холодильник продуктами, она к тому же оставляла под сахарницей три-четыре сотенных бумажки, — и Антонов подозревал, что нечесаная Вика, хмуро провожая мать в прихожую, получает в карманчик халата дополнительную денежную дань. Движимый яростным стыдом, он дал чуть ли не во все городские газеты стандартное объявление насчет подготовки к экзаменам в вузы, — но на его призывы размером с почтовую марку никто не откликнулся. Более удачливый коллега, недавно вставивший новые дорогие зубы и щеголявший на лекциях арифметически — клеточной улыбкой, объяснил Антонову, что теперь не то, что год назад, по объявлению стоящей работы не найдешь, нужно иметь рекомендации и обращаться в фирмы по подбору персонала. Ошарашенный Антонов подумал тогда, что будущее наступает совершенно новым способом: в настоящее уже внедряется частями, не дожидаясь нормального срока, какой-то чуждый, иностранный двадцать первый век, размечает живую территорию своими еще не живыми вкраплениями, — но тем меньше люди, внезапно натыкаясь на новизну, верят в то, что естественным образом, прямо живьем, перейдут в это уже близкое будущее, неизбежность которого стала как-то сродни неизбежности смерти. Может быть, впервые в человеческой истории будущее наступало как небытие, как раннее мертвое утро, словно перевернутое вверх ногами из-за длинных, далеко протянутых теней, — но Антонов старался отвлечься от подобных мыслей и сосредоточиться на поисках денег, тоже без конца меняющих облик и оттого все более условных, нарочно украшенных сложными радугами для удостоверения стараний фальшивомонетчика.
Вика, так и не восстановившаяся в университете, сделалась дерганой, ее неверные движения казались что-то означающими жестами, в то время как она всего лишь хотела дотянуться до книги или намазать бутерброд. Ее прекрасно загорелый прототип — демон с хрустальными глазами и сухими бумажно-белыми ладонями — пребывал в одном хорошем местечке южного полушария, где полеживал на тонком соленом песке, хранившем посеребренные морские ракушки, или посиживал с запотевшим, буквально обтекающим бокалом прохладительного в жесткой, лишенной трепета тени как бы от чего-то сломанного — жалюзи, или забора, или целого дощатого дома, — а оригиналы теней, тропические растения, красовавшиеся на берегу океана, точно на огромном подоконнике, меланхолично шуршали на ровном ветру. Бедная Вика в своем романном пространстве смутно ощущала, где должна была бы находиться в действительности; ее приводила в тоскливую ярость самая мысль о затхлой темноте университетского коридора, напоминавшего убогостью и запахами столовской тушеной капусты какую-то громадную коммуналку. Деньги сделались главной Викиной заботой; ей мерещилось, что как только кончится очередная порция денег, с ними кончится и жизнь, а вместо жизни наступит неизвестность, из которой не окажется выхода даже при помощи отложенного самоубийства — потому что будущее (она это тоже чувствовала) уже обладало всеми свойствами небытия. Теперь, чтобы умереть, не надо было делать ровно ничего, даже пальцем шевелить; поэтому Вика после первого периода домашнего обустройства хронически впала в безделье. Антонов, прибегая с лекций, находил на кухне грязные тарелки с размазанной желтизною утренней яичницы, возле них всегда валялась Викина расческа, такая же черная у корешков, как и ее отросшие, давно не крашенные волосы. Вся она, сутками сидевшая в сумерках квартиры, сделалась такая нездорово-бледная, что казалось, тронь ее тропическое солнце, будет не загар, а только хлорофилл.
Иллюзию занятости и непропавшего года (замужняя Вика по-детски соглашалась с тем, что нормальная жизнь состоит из этапов, подобных переходам из класса в класс) создавали курсы бухгалтерии и менеджмента, обходившиеся теще Свете ежемесячно в кругленькую сумму. Там, в зарешеченном школьном пристрое, с видом на трубы теплотрассы, обернутые, будто пальмы, рыжим волосатым войлоком, изящная принарядившаяся Вика волей-неволей терпела соседство каких-то деревенских девушек с идиллическими гладкими головками, но в ужасных зимних сапогах, похожих на кривые толстые пеньки. Зато она понимала учебный предмет, где числа не служили прилагательными для лишенных существенности символов и не отражались с противоположным знаком в чудовищном зеркале нуля, но исправно означали деньги, существенные сами по себе, восстанавливающие реальные связи реальных вещей. Тем не менее общий налет сумасшествия (блеклость мартовских людей и синяя яркость теней, весна под капельницей, запахи помоек) на какое-то время превратили здравую науку в числоманию. На улице Вика высматривала в сияющем, сигналящем потоке номера автомобилей и воображала, что бы она купила, будь у нее такие деньги в рублях или в долларах. Сумма, поначалу казавшаяся сказочно большой, при распределении на конкретную мебель, бытовую технику и одежду (муж Антонов тоже не бывал забыт) быстро исчезала по частям, и возбужденная Вика, то залезая на высоченный обочинный сугроб, то спускаясь по яминам-ступенькам под самые виляющие колеса, тут же принималась выискивать среди номеров еще большую цифру. Она никак не могла насытиться эфемерным богатством, не справлялась с мысленным поглощением целого города, совершенно не приспособленного для потока иномарок, еще и стесненных по обочинам грудами зимнего строительного мусора, ломом снежных плит и рыхлых кирпичей. Город, страдающий автомобильной гипертонией, не умещался в Викином сознании; редкие его дорожные пустоты, куда, окутываясь бисерными брызгами, тотчас устремлялись на свободной скорости шелестящие авто, были особенно опасны. Все-таки Вика, разинув рот, ступала на эту проезжую часть, чем-то похожую на мертвую скользкую рыбину, с которой яростно шваркают чешую; рыба елозит и пошлепывает вялым хвостом — и вдруг упруго загибается в кольцо, обнаруживая еще не утраченную мышечную жизнь. Видимо, водители машин каким-то образом чуяли, что девица на высоченных тонких каблуках, слезая на дорогу, ступает в собственную судьбу (уже загибавшуюся в кольцо); по-своему это истолковывая, многие тормозили, распахивали дверцы более или гораздо менее комфортабельных салонов, откуда вырывались тепловатые автомобильные смеси музыки, парфюма и бензина, — а однажды неосторожная Вика еле отвязалась от жирного угрюмого кавказца, возмущенного тем, что девушка махала рукой, а теперь нэ хочет ехать в рэсторан.