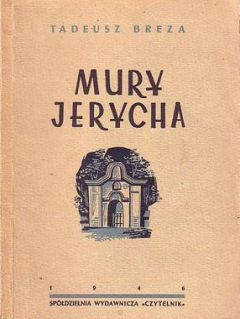Теперь я с напряженным вниманием слушал, что он говорит. К сожалению, он отвлекся. Сперва потому, что кельнер подавал вино, салат, рыбу, и каждое новое блюдо Малинский встречал шутливым афоризмом. Затем куда-то запропастился бульдог.
Нашелся. Потом нужно было отведать рыбу, пока она горячая.
Наконец я не утерпел:
- Но где же первоисточник? Кто? Почему?
- А если предположить, что причина в епископе Гожелинском?
- Ведь он умер! - воскликнул я.
- Но память о нем жива. Разве нельзя предположить, что в курии решили создать культ его памяти и сам по себе этот факт стал помехой на вашем пути?
- Создать культ! - испугался я. - О чем вы говорите?
- Разве не понятно? - возразил он. - Вы, как сын консисториального адвоката, должны в таких вещах разбираться куда лучше, чем я-офицер, консул и коммерсант.
Он заплатил по счету и взял своего бульдога под мышку. Мы сели в машину и поехали в сторону Рима. Его слова душевно парализовали меня. Они меня испугали, хотя в них не было точности и видимой связи. Вопреки его предположениям я вовсе не был специалистом по церковным делам, однако я был достаточно в них сведущ, чтобы отвергнуть его гипотезу. Это правда, что епископа все уважали. Человек он был упрямый и злопамятный, но, несомненно, порядочный. Допустим, что даже больше того, намного больше, но ничего сверх заурядных достоинств и заурядных добродетелей. Разумеется, если применять к его личности не обычную меру, а такую, какая применима по отношению к священнослужителям и прелатам на руководящих постах. Он был выше своего окружения. Согласен. Против этого нельзя было возражать. Поэтому-то многие люди и считали епископа человеком выдающимся. Я тоже, всякий раз как о нем заходила речь, особенно в Риме, называл его выдающимся. Так мне советовал отец. Впрочем, я и сам не возражал. В моем положении было бы некрасиво принижать достоинства епископа.
Но это все! Все!
- Епископ умер в прошлую среду, - в конце концов я заставил себя ответить Малинскому. - Шесть дней тому назад, Я слышал, что в Ватикане решения принимают исподволь, после зрелого размышления. Почему же вдруг такая спешка?
- А кто же говорит о решениях! - вскричал Малинский. - Ничего подобного! Пришло сообщение о смерти. В некоторых монастырях и церквах провели богослужения. Заупокойные обедни, скажем, более торжественные, чем обычно. Только и всего.
- Но почему же как раз в данном случае более торжественные? - напирал я на него, требуя объяснения. - Ведь для Ватикана такая смерть не в новинку. Масштабы церкви так велики, что в Рим чуть ли не каждый день должны приходить скорбные вести.
Вероятно, только очень немногие из них вызывают здесь особый отклик, в таком духе, что могут всерьез возникнуть разговоры о культе.
- Не знаю, - ответил Малинский. - Я вас уже предупредил, что не разбираюсь в этих вопросах. Вы заметили, что к вам стали относиться настороженно: вас выставили из Ватиканской библиотеки; адвокат Кампилли, хоть он человек и влиятельный, не вступился за вас... Услышав об этом непосредственно из ваших уст, я поставил диагноз: вокруг вас ведется игра! Затем я вспомнил, что мне довелось услышать о вашем отце и покойном епископе и какой шум вызвала в Риме его смерть. Сопоставив одно с другим, я предложил диагноз самого общего характера. На этом моя роль кончается.
Я закрыл глаза и раза два потер влажными руками вспотевшее лицо. Чувствовал я себя скверно. Был измучен, разбит. Могу сказать, что в этот прекрасный день, с кристально чистым, прохладным воздухом, даже физически я чувствовал себя хуже, чем во все последние знойные дни с таким низким давлением, что сердце едва не лопалось. Я старался пересилить себя и поддерживать беседу, но Малинский сказал уже все, что знал, и теперь повторялся. Он выражал сожаление по поводу того, что мы раньше не поговорили, у него ведь с самого начала было такое намерение, и он мне предлагал свою дружбу с первого же дня.
Малинский подчеркнул, что мне это было бы полезно. Внимательней прислушиваясь к тому, что говорят в разных кругах и в разной среде, он, к примеру, сегодня намного больше знал бы о деле и, опираясь на более богатую информацию, пришел бы к более веским выводам.
- Подумаем! Подумаем! - твердил он в ответ на мои дальнейшие расспросы. - Подумаем, что все это может означать. Попробуем разузнать. Но вы своим путем тоже ведите розыски. Может быть, ваши дела вовсе не так плохи, как нам кажется. Не знаете ли вы в Риме, помимо Кампилли, какого-нибудь важного, солидного человека, с кем вы могли бы откровенно поговорить? И который захотел бы и смог бы вам помочь?
- Я знаю одного влиятельного иезуита, - робко заметил я.
- У каждого здесь найдется такой знакомый, - без энтузиазма встретил мое сообщение Малинский. - Где его резиденция? В их главном штабе на Борго-Сан-Спирито или в канцеляриях Вилла Мальта?
- Нет. На пьяцца делла Пилотта. В университете.
- Гм! Ну так бегите туда.
Я попросил его остановить машину поблизости от Грегорианы; расставшись с Малинским, купил в первом попавшемся киоске почтовую бумагу и конверты. Затем в баре написал несколько слов священнику де Восу, таких же точно, с какими уже однажды обращался к нему: просил о встрече и предупреждал, что позвоню на следующий день с самого утра-справлюсь, может ли он меня принять и когда. Потом я отнес письмо. К обеду в "Ванду" я не поехал. У меня не хватило сил. Впрочем, после рыбы в Фиумичино я не был голоден. Я выпил только кофе. А потом направился вниз, в сторону Колизея. Затем по лестнице-к Эксвилину. Здесь, в садах, провел несколько часов, бродя среди руин и памятников древности. Наконец я успокоился и за ужином в "Ванде" уже запросто принимал участие в общем разговоре.
Когда же я очутился в комнате один, нахлынула новая волна раздражения и горечи. Однако я еще раз пересилил себя. Ведь Малинский мог ошибаться. Его уравнение в значительной мере строилось на неизвестных. Необязательно все из них идут вразрез с моими интересами. Следовало крепко взять себя в руки и, пока еще полностью не сдаваясь, дождаться разговора со священником де Восом. Я твердил это про себя, твердил до тех пор, пока наконец под утро, бог знает в котором часу, не заснул.
XIX
Тяжелые железные двери. В верхней их части массивные кованые решетки с причудливым орнаментом защищают толстые пласты стекла. Ручка двери похожа на кирпич-большая и неуклюжая. Нажимаю ее и тяну уже в третий раз. Раньше она легче поддавалась. Упираюсь ногами и дергаю. Я знаю, что должен вести себя спокойно, и не могу. Полчаса назад я позвонил священнику де Восу. Тихим голосом, лишенным всяких интонаций, он сообщил, что может меня сейчас принять. Звонил я без всякой уверенности, сомневаясь, согласится ли он, а если согласится, то не станет ли откладывать встречу. Услышав, что он согласен, я поблагодарил его. Во время разговора крепко прижимал трубку к уху.
- Благодарю, от всего сердца благодарю, - повторял я.
Его молчание длилось одну, две, пять, десять секунд.
Потом:
- Итак, я жду.
Выбегаю из пансионата. Минуту спустя я уже на площади Вилла Фьорелли. Автобус уходит у меня из-под носа. Мчусь на площадь Рагуза к стоянке такси. Нет ни одной машины. Поворачиваю назад. Наконец что-то едет. Троллейбус. Вскакиваю. Возле Главного вокзала спрыгиваю. Ловлю такси. Взбегаю по парадной полукруглой лестнице перед входом в Грегориану. Пытаюсь открыть эти двери. Наконец они поддаются. Вестибюль. Направо дежурная комната, где сидят два молодых иезуита: один-у коммутатора, другой выдает справки. Я вижу его. Он-меня. Мы здороваемся. Я подхожу.
- К отцу де Восу? - спрашивает он.
Я утвердительно киваю головой.
- Он уже ждет вас.
Я направляюсь к лифту.
- Нет. Он ждет вас в приемной. Пожалуйте за мной.
Я сжимаю в руке карманный календарь со списком вопросов, которые нужно задать священнику де Восу. Я собирался еще раз их просмотреть по дороге. Теперь уже поздно. Главное: как можно меньше говорить самому, слушать. Я про себя повторяю это условие, хотя и знаю, что оно совершенно нереальное. Ведь известно, что священник де Вое неразговорчив, а я от волнения становлюсь болтливым. Молодой иезуит отворяет небольшую белую дверь в конце коридора. Значит, меня ведут в какую-то другую приемную, не в ту, что раньше. Вхожу. Комната другая, но мне сразу бьет в нос прежний, знакомый уже запах пыли и дезинфекции. Священник де Вое сидит посредине комнаты за маленьким столиком, оперев на него руки, сложенные словно для молитвы. Он не встает. Не здоровается. Не поворачивает головы.
Указывает мне стул с противоположной стороны столика. Он держится так, словно нам предстоит вернуться к прерванному разговору, с той лишь разницей, что мы перешли в другое помещение.
- Слава господу нашему, - говорю я.