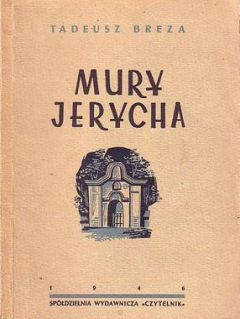- Слава господу нашему, - говорю я.
- У вас неприятности.
Это не вопрос, а утверждение.
- Да. Вы уже о них слышали? В Ватиканской библиотеке...
Он остановил меня движением руки.
- Об этом я тоже слышал.
- И о чем еще?
- И о том, что, конечно, внушает вам наибольшее беспокойство.
- Значит, вам известно, что в курии внезапно решили превратить моего отца из пострадавшего в агрессора!
Я снова увидел перед собой маленькую, худую руку де Воса.
Рука дрогнула-это означало, что он возражает против моей формулировки. Но опровергать ее он не стал.
- Вот как! - воскликнул я. - Значит, это верно, что таким образом восстанавливают общественное мнение против моего отца!
- В вас говорит горечь, - сказал священник де Вое.
- А что же иное должно говорить, - с раздражением ответил я. - Я в курсе дела, хорошо знаю обоих противников-и моего отца, и епископа. Я приехал сюда, в Рим, полный надежды.
Приехал, воодушевленный мыслью, что тому злоупотреблению властью, какое допустил епископ в отношении моего отца, будет положен конец. Как можно тактичнее, как можно деликатнеесогласен, но все-таки в соответствии с правом и справедливостью.
А между тем ничего из этого не получилось! И вдобавок еще мои хлопоты обернулись во вред отцу!
- Ваши хлопоты не имели и не имеют ни малейшего влияния на то, как складывается ситуация. Они не принесли плодов. Это не подлежит сомнению, как не может подлежать сомнению и то, что они не принесли плодов потому, что никто теперь в курии не решит ни одного вопроса, к которому причастен священной памяти епископ Гожелинский, не в его пользу. А все по той причине, что образ усопшего, выдающегося князя церкви, растет на глазах. В данных условиях вы должны с этим примириться!
Никому не удастся прийти вам на помощь.
- Я хочу понять, - прошептал я. - Если я не в состоянии помочь моему отцу, то по крайней мере хочу объяснить ему, почему так получилось. Но я и этого не смогу сделать. Потому что я не понимаю! Не понимаю!
- Такой простой вещи? - удивленно спросил де Вое после затянувшейся паузы. Видимо, не вполне она была проста, если он так долго размышлял, прежде чем ответил:-Ведь мертвые живут!
- Живут! Живут! - жестко возразил я. - Живут, когда их оживляют! Я хорошо знал епископа Гожелинского. Коль скоро сегодня его "образ растет", как вы говорите, и к тому же так вот сразу, так быстро, то происходит это не в силу его собственной святости, а по воле людей, которые это затеяли.
Священник де Вое нахмурился и повторил:
- В вас говорит горечь. Напомню вам, однако: когда мы в первый раз беседовали о покойном, вы иначе о нем отзывались.
Разве вы не сказали, что он ведет жизнь святого?
- Признаюсь! - воскликнул я. - И отнюдь не собираюсь оспаривать того, что он был чистый, достойный уважения человек.
Среди духовенства таких очень много. И поэтому, по моему глубочайшему убеждению, одних хороших качеств епископа Гожелинского не хватило бы для того, чтобы так отличать его, как это делают теперь в Риме. Значит, ясно, что кому-то это выгодно! Кто-то в этом заинтересован!
- Может быть, церковь, - прошептал де Вое. - Вы произнесли некрасивое слово. Вы сказали: затеяли. Вы повторяете инсинуации: кому-то, кто-то. Такими выражениями вы еще больше себя взвинчиваете. Зачем? Слова ваши неуместны и звучат фальшиво. Произошло событие, которое смешало расчеты-ваши и вашего отца. Вас оно возмущает, вы подозреваете злой умысел и корыстные интересы. Неужели вам ни разу не пришло в голову, что природа этого события может оказаться неземной?
Я раздраженно ответил:
- Не верю и никогда не поверю в святость епископа Гожелинского.
- А если церковь ее признает, вы и тогда будете отрицать? - спросил он.
Я больше не владел собой; забыв о предостережениях отца, о правилах тактики и даже о простой вежливости, я повысил голос:
- Но это же бессмыслица!
- Или, совсем наоборот, полно глубокого смысла, сын мой.
Ведь часто мудрость, которую мы не понимаем, кажется нам глупостью. Смирение, смирение, сын мой. Вам нужны смирение и воля, самая искренняя, добрая воля, чтобы понять непонятные вам вещи, которые вы должны, даже обязаны, понять, если действительно, несмотря на неудачу, хотите морально поддержать отца, правильно осветив истинные причины постигшей его неудачи.
- Да, - сказал я. - Ничего другого мне не осталось.
Мне было бы куда легче, если бы минуту назад, чуть ли не крича от возбуждения, я вскочил бы и убежал прочь от того места, где мне вполне официально сообщили о поражении и где мне больше нечего делать, разве что еще час или два переливать из пустого в порожнее. Но я не убежал. Я остался из уважения к священнику де Восу. Меня не интересовало, что он мне скажет. А в моем взволнованном состоянии я определенно не годился для роли человека, оказывающего другому ту моральную поддержку, о которой упомянул де Вое. Да и пререкаться с ним было бы так же нелепо, как пререкаться с почтальоном из-за того, что доставленное им письмо содержит дурные вести. И все-таки я не двинулся с места. Я не смог. Именно из уважения к отцу де Восу. Я хорошо понимал, что ему тоже невесело. Не мог я забыть и того, что вначале, когда это было возможно, он обещал мне помочь. И даже еще сегодня принял меня, не откладывая неприятной для него встречи.
- Я жду. Жду этой моральной поддержки, - сказал я, стиснув зубы.
Священник еще ниже опустил голову. Некоторое время он сидел неподвижно и молчал, прижимая сплетенные руки к столику, разделявшему нас. То ли он размышлял, то ли молился, то ли собирался с духом-не знаю. Пожалуй, верно последнее!
Вне сомнения, он тоже охотнее всего ушел бы отсюда, он не привык, чтобы такие люди, как я, незначительные люди, которых не пускают дальше приемной, возражали ему и к тому же крикливо, саркастически. Но вот его маленькая, красиво вылепленная голова с коротко остриженными седыми волосами шевельнулась. Сперва вправо, потом влево. Он несколько раз повертел ею, глубоко втягивая в себя воздух.
- Нет, нет, нет, - услышал я наконец. - В таком настроении вам не следует внимать моим словам.
Я прикоснулся к его рукам, лежавшим на столе. Я хотел их пожать, но он их отдернул.
- Простите меня, пожалуйста, - сказал я. - Тон мой был неуместный. Но ведь вы понимаете, что с мной происходит. Я знаю, что вы не такой, как все прочие здесь. И еще раз прошу простить меня, поскольку я в обиде не на вас, а только на курию.
Священник де Вое выпрямился.
- Я ее частица. А теперь выслушайте меня спокойно. Не прерывайте меня. Вы курите? Если да, пожалуйста, курите.
Здесь можно.
Итак, я закурил, крепко прижимая сигарету к губам.
Голову я повернул в сторону, уставившись в одну точку на полу, в один черный квадрат отполированной каменной шахматной доски. Мне казалось, что в такой позе мне легче будет соблюсти приличия, вяло, не протестуя, принять все разъяснения, без дальнейших ненужных возгласов выслушать до конца его выводы, хотя бы и самые казуистические. Пусть говорит, пусть выскажется, выболтается! У него есть на это право. Я от всего сердца наделю его этим правом в обмен за проявленную ко мне доброжелательность. Без возражений все проглочу. И даже более того: пообещаю передать отцу все, что услышу. Но что касается лично меня, то никакая аргументация не убедит меня, поскольку мне известна ее цель, она должна обосновать неприемлемый для меня исход. Я докурил сигарету. Достал из пачки другую. Все это время священник де Вое говорил. Разумеется, по-итальянски. Но, по мере того как его рассуждения затягивались и усложнялись, в его итальянской речи все заметнее пробивался северный, голландский акцент. Иногда я даже с трудом понимал его. Правда, только изредка, некоторые фразы. Зато мало-помалу мне становилась все более ясной его основная идея. Он старательно, подробно развивал ее минут пятнадцать, а может, и двадцать. Сводилась она, собственно говоря, к тому же, что высказывал прелат Кулеша в воскресенье за чаем у пани Рогульской: церковь уже много-много лет горячо ищет великую святую фигуру, фигурусимвол, символ мученичества и борьбы с той силой, которая в наши дни воплощает основное заблуждение эпохи и является главным врагом бога на земле.
- Великой тоске по идеальному образу, - говорил он, - нужна ось, вокруг которой она могла бы кристаллизоваться. Она лихорадочно пульсирует кровью и огнем в сердцах верующих, в сердцах миллионов, миллионов людей, любящих религию. Это не выдумка курии и не чей-либо-если пользоваться вашим ужасным выражением - злой умысел. Это мистический зов неисчислимой массы человеческих душ, зов, на который может откликнуться одно лишь небо.
Он замолчал и после паузы спросил:
- Теперь вы все поняли? Если нет, спрашивайте, пожалуйста.