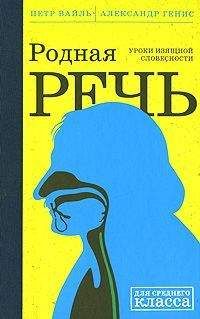Ознакомительная версия.
Так случилось, что я ушел из Литинститута и на много лет потерял Колю из виду. Году в 68-м или 69-м (работал я тогда в Норильске у геологов) случилась оказия в Москву. Заодно заехал в издательство «Молодая гвардия» узнать о судьбе своей книги, которая никак не могла родиться. И в фойе издательства неожиданно встретил Рубцова, а с ним — нашего в прошлом однокурсника и соседа по общежитию Толю Жукова (позже он стал директором «Советского писателя»). По такому случаю взяли, как водится, бутылец и приговорили его на троих в соседнем стоячке «Кафе молочное». Коля в то время жил в деревне где-то под Вологдой, у него выходили подборки стихов в Москве, о нем писали, в «Молодой гвардии» была на выходе книга. О своей деревенской жизни рассказывал так:
— Бабки приходят к местной учителке, спрашивают: «А чего это Рубцов все пьеть и пьеть?» А та отвечает: «Дак поэт он, работа у него такая». Потом я завязал. Бабки всполошились: «Рубцова-то выгнали из поэтов?» Учителка говорит: «Вроде нет, с чего вы?» «Дак все не пьеть и не пьеть!»
Потом задумался и заключил:
— Все бы ничего, да вот беда: домой часто не могу войти. Стоят у калитки маленькие и не пускают.
— Какие маленькие? — не понял я.
— Да такие. — Коля показал метр от пола. — Наглые такие. Стоят руки в боки, ноги в сапогах выставят, качают туда-сюда, не пройти. Хоть в окно лезь. А что? И лезу.
Мы с Жуковым переглянулись. Он осторожно поинтересовался:
— А во что они одеты?
— В тулупчики!..
Больше мы не виделись. А от той встречи осталось уверенность, что у Коли поехала крыша. Потому я не очень удивился, узнав о его нелепой смерти. Его, пьяненького, задушила подушкой сожительница, молодая поэтесса, не выдержавшая, как он глумится над ее стихами и бросает в нее зажженные спички. Коля оказался верен своей привычке вляпываться в неприятности на ровном месте.
Эти заметки резонно бы завершить стихами — Ильи Эренбурга (в свое время тоже был поэт не последний) или Николая Рубцова. Но закончу Бродским:
Вот и прожили мы больше половины.
Как сказал мне старый раб перед таверной:
«Мы, оглядываясь, видим лишь руины».
Взгляд, конечно, очень варварский, но верный.
И, с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.
А. С. Пушкин
Запой подкрался незаметно. Он всегда подкрадывается незаметно. Начинается с малости, с безобидного облачка на горизонте — с беспричинного томления духа, похожего на томление природы перед грозой, когда ничто еще не предвещает грозу, а в воздухе уже копится невидимое электричество. Докучают близкие, раздражают мелочи быта, обесценивается работа, даже любимая. «Погода зависит от настроения народа». Вчера еще радовался этой фразе, предвкушал, как она распустится пышным июньским пионом. Сегодня смотришь на нее с отвращением. И лишь бутылка пива или стопарь снимают дурное напряжение, позволяют расслабиться. Все, первый шаг к запою сделан.
Чаще всего второй шаг не заставляет себя очень долго ждать. В этот период выпивка становится основным организующим началом жизни. Все крутится вокруг нее. Все меньше места она оставляет работе и домашним обязанностям, властно определяет круг общения, заменяя друзей собутыльниками, с которыми можно говорить о чем хочешь.
Весной 1970-го года я вернулся в Москву из Норильска, где проработал ровно три года, от звонка до звонка (приятели шутили: как за злостное хулиганство). Снял дачу под Москвой, составил список неотложных дел, было в нем пунктов десять. Первая же деловая поездка в редакцию закончилась встречей с друзьями, которых не видел три года, и, понятное дело, пьянкой. Вторая и последующие — так же. Месяца через два список неотложных дел удвоился, потом утроился. К осени я в него уже и не заглядывал. Утром 10-го октября я вылил в умывальник содержимое всех бутылок, оставшихся после вчерашнего, и объявил, что завязываю. На пять лет. И представьте себе, завязал, выдержав мощный напор недоумений, сочувствий, насмешек и призывов завершить пятилетку в три года. В Москве к моей дури постепенно привыкли, а для Норильска, куда я прилетал в командировки, это было полнейшей неожиданностью. Каждый мой приезд был хорошим поводом для полнометражной пьянки, которую не останавливало мое в ней неучастие.
Впервые в жизни я получил возможность наблюдать дружеское застолье со стороны: как образованные и остроумные люди постепенно превращаются в косноязычных пошляков с идиотскими шутками, беспричинным хохотом, бессвязными разговорами. На другой день они говорили: «Как душевно мы вчера посидели!» А я думал: видели бы вы себя, слышали бы себя! Неужели и я бывал таким? Конечно, таким, а каким же еще?
10-го октября 1975 года в Сандунах я выпил первую за пять лет кружку пива. И не понравилось. Потом ничего, привык, снова вошел во вкус. Так что воспринимайте эти заметки как свидетельство из первых рук. Была такая газетная рубрика: «Проверено на себе».
Следующая стадия запоя начинается в одно прекрасное утро, когда перед жестокой необходимостью немедленно опохмелиться безоговорочно капитулируют и сила воли, и чувство долга, и стыд перед домашними. Про работу и говорить нечего. Ни хрена, перебьются (если работа требует ежедневного присутствия). Ни хрена, подождут (если речь идет о сроке сдачи рукописи). Трубы горят — это непреодолимо.
Удивительно выразителен алкогольный фольклор. Как еврейские анекдоты или подзабытое сегодня армянское радио. Почему бы это? Его создают остроумные люди, в большинстве своем народ пьющий? Или выпивка растормаживает сознание обычных людей и делает их остроумными?
Трубы горят — еще не запой, но уже очень близко к нему. Пожар гасится тем, что есть дома. Если же ничего нет или есть маловато, что чаще всего и бывает, тогда — вон из дома, на волю, к людям, которые тебя поймут.
Лет тридцать назад, когда я окончательно сменил Москву на ближнее Подмосковье, на платформах всех электричек стояли деревянные буфеты, неказистые снаружи и очень уютные внутри. Открывались они за полчаса до первой электрички, примерно в половине пятого утра. Продавали там бочковое разбавленное пиво и портвейн неизвестного происхождения, неразбавленный, потому что в стеклянные конусообразные емкости его наливали из трехлитровых банок на глазах у публики. Торговали здоровенные, как на подбор, бабищи, быстрые на слово и дело, усмирявшие дебоширов без всякой милиции. Недостатка в посетителях не было. Рабочий люд приходил заранее, пропускал перед электричкой по пиву или по стакану бормотухи, выкуривал по беломорине и ехал трудиться. Те, кто трудиться были не в состоянии, зависали в буфетах до закрытия.
Потом буфеты с платформ убрали. Но спрос никуда не исчез, инфраструктура организовалась поблизости от станций, как говорят сейчас — в шаговой доступности. У нас в поселке пивную построили на песчаном косогоре над платформой — на горке. Так и говорили: «Ты куда? На горку». Она была кирпичная, просторная — не то, что закуток на платформе. И сразу стала клубом для страждущих. Торговали тем же пивом и бормотухой, своим наливали и водку.
Поразительно, как пьянка стирает все различия между людьми. Нередко за одним столом или на бревнышках возле пивной оказывались профессор-лингвист, за душой которого целые библиотеки прочитанных книг, слесарь-сантехник с составами выпитого за предшествующую жизнь агдама и солнцедара, молодой литератор (это я про себя). И им всегда было о чем поговорить — о том, как и от чего горят трубы. А потом и вовсе наступало единодушие, каждый говорил свое, и все были уверены, что они прекрасно общаются. При этом не имело значения, есть ли у человека, дошедшего до горки, деньги или нет даже «рваного».
Однажды коллега-писатель, снимавший на лето дачу неподалеку от меня, абсолютный трезвенник (бывают и такие, но очень-очень редко), спросил у моей жены, удивленный ее спокойным отношением к моим загулам (спокойствие было, конечно, внешним):
— Зачем вы покупаете ему водку?
— Чтобы не выходил из дома. Свалится по дороге. Или попадет под электричку.
— А если не давать денег?
— Для писателя вы плохо знаете жизнь. Когда человеку нужно выпить, он всегда найдет, где и с кем выпить. Сегодня ты мне нальешь, завтра я тебе.
Я невольно перескочил промежуточный этап, когда еще хватает сил дотащиться до горки или до ближайшего магазина. Но он короткий, быстро наступает момент, когда Его величество Запой встает перед тобой в полный рост и распахивает свои черные крылья, заслоняя весь белый свет. Любое вторжение извне, даже самое безобидное, кажется катастрофой, от случайного телефонного звонка вздрагиваешь всем телом, как лошадь от укуса слепня, и даже знакомая ворона за окном зловеще кричит с туманной сосны: «Блядь! Блядь! Блядь!»
Ознакомительная версия.