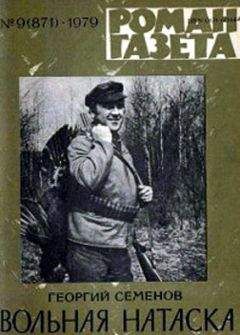В первый день, вернувшись с реки, я пустил Леля в чулан, принес старую телогрейку, на которой он спал, и, бросив в угол, приказал ему идти на место.
Но какое там! Когда он увидел меня лежащим на ватном матрасе на полу, он тут же кинулся ко мне, и у нас началась борьба, победителем из которой вышел, конечно, Лель, хотя я и умучил его до такой степени, что он, пошатываясь, отошел от меня к окну, что-то в нем мгновенно расслабилось, и он грохнулся на пол, мягко и глухо стукнувшись костями, вытянул, отбросив на сторону, все свои четыре ноги, и, растянув розовое брюшко, моментально уснул.
Я смотрел на это маленькое чудо, лежащее на полу на уровне моих глаз, и улыбался, когда он вдруг начинал подергивать во сне ногами и по-щенячьи гнусаво попискивать, поскуливать, а потом, успокоившись ненадолго, опять волновался во сне, чмокал языком, подрагивал черными губами, словно бы сосал молоко, уткнувшись в материнское тепло, о котором он наверняка уже не помнил наяву.
Я тоже, глядя на него, незаметно и сладко засыпал, но тут же через какую-то, казалось, минуту в ужасе просыпался, потому что отдохнувший Лель с новой силой набрасывался на меня, норовя укусить за нос. А надо сказать, что кусался он очень больно, еще не понимая силы своих укусов. «Иди отсюда!» — кричал я на него спросонья и отпихивал упругого шелкового драчуна, который, как все юные, младенчески беззащитные существа на земле, был так пленительно хорош, такое вызывал к себе доброе чувство своим видом, душновато-душистым щенячьим запахом розовой своей пасти, что просто нельзя было разозлиться на него всерьез.
Природа словно бы наложила священное табу на своих молочных детей, снабдив их очаровывающей душу прелестью, уповая на которую суждено им защищаться от злого глаза и коварного умысла старших их братьев, коим и считал я себя по отношению к Лелю, присвоив себе это право.
Он исслюнявил мне подбородок, оцарапал до крови щеку острым коготком верхнего, пятого пальца, исхлестал мое лицо жестким и еще голым, как прут, хвостом с завихряющейся кисточкой на конце. И пришлось вытурить его за дверь… Очутившись у меня в руках, высоко над полом, он робко притих, свесив свои толстые лапы и поджав хвост, но стоило ему очутиться в сенях, как живая пружина тут же подбросила его, и он сразу же вцепился зубами в мою босую ногу… Я еле спрятался от него за дверью. А он постонал, поскулил, потявкал плаксиво и наконец убежал во двор. Я же, укрывшись простыней, тут же уснул.
У каждого в жизни случаются дни, когда делать бывает буквально нечего, но когда, однако, кажется, будто бы это именно те золотые дни, отпущенные тебе жизнью, которые наполнены такой деятельной силой, о какой ты и не мечтаешь никогда в рабочие дни.
Дни эти излучают солнечный какой-то свет и приходят к тебе обычно после тяжелой, отчаянно мучительной, но удачной работы, завершив которую иногда думаешь, что вот ты и сумел чего-то достигнуть в жизни, взял какой-то рубеж, который был вроде бы неприступным, и честно заработал право на отдых. И не дядя разрешил тебе приказом отдохнуть, а именно ты сам себе, по собственной своей потребности разрешил, не дяде, а самому себе сказав: имею право, — придя в это милое ничегонеделание с душою, полной надежд на будущее, или, как говорит всегда Александр Сергеевич, на «буде-щее».
«Будущее покажет», — ответил он мне, когда я спросил у него, а получится ли толк из собаки.
Эти счастливые дни быстротечны и легки, как вздох. Не успел ты оглянуться, их уже и след простыл, хотя и казались они тебе поначалу вечностью. В эти дни, словно после долгой и изнуряющей, губительной привычки к сигаретам ты успел уже отвыкнуть от никотинной отравы, все твои чувства словно бы оживают и обостряются, ты начинаешь улавливать тончайшие запахи жизни, все ее звуки, краски, переливы сумерек, света и тьмы. Ты осматриваешься вокруг себя с удивлением, словно бы хочешь внимательно приглядеться ко всему живому, что тебя окружает, и, запомнив все это, понять наконец-то, ради чего ты живешь и стараешься в муках объять необъятное.
Александр Сергеевич Бугорков, как я ни упрашивал его, не разрешил мне брать с собой Леля.
«Я его в поле выведу только на будущий год, он у меня поле увидит только в июне будущего. А ты возьмешь его глупого, он и отобьется от рук. У него еще страсти-то охотничьей нет! А в поле потаскаешь, так и совсем заглушишь ее. Одно и останется: привязать к березе да пристрелить. А я его до года-то выдержу: чутье проснется у Лелюшки моего и силенка будет в самый раз… Он у меня — у-ух как — полетит по лугам… Челночок поставлю в мае на пустом поле, а когда бекас на крыле будет, вот тогда и поведу его — пусть гоняет. Бекас-то вжик-вжик и ушел, а Лелюшка-дурачок с языком высунутым ко мне: „Что делать, хозяин?“ Вот когда он у меня спросит, что делать-то ему, тогда я возьму его на шнурочек и к бекасу. Замечу, где бекас шумовой с лету западет, и с подветра поведу. Вот уж тогда не дам гонять! Тогда уж он мой! Охотник охотника сразу поймет! Покажу ему, что делать надо, он мне душу свою отдаст за это! Лучшего друга с тех пор не будет для него, кроме меня! Вот он сейчас и к тебе вяжется, и к кому попало, а тогда уж — позволь! Тогда он еще поглядит на тебя. А испортить собаку — ума не надо.
Вот мы с Лелюшкой-то с будущей весны челночок отработаем, а потом и на болото пойдем… Пускай погоняет! Когда он под присмотром-то моим будет гонять, это ему только на пользу. Я-то дам ему нагоняться вволю. Он вроде бы стараться будет: вот догоню, вот догоню! А я погляжу на него, головой покачаю и скажу с насмешкой: „Дурак ты, Лелюшка, дурак!“ Он поймет, не думай! А когда поймет, тогда уж не зевай. На шнурочек и в болото — . покажи собаке настоящую дичь, укажи ей на ее призвание, она тебе за это спасибо скажет. И уж тогда — позволь! Тогда уж по всей строгости требуй с нее настоящей работы. А как же! Мне ж не только на ее удовольствие любоваться, мне надо, чтоб от ее удовольствия я и сам тоже удовольствие имел. Все как у людей чтоб было! А другой сразу в поле ведет на шнурочке, с перепелкой бескрылой в кармане. Пустил бескрылку, она пролетела двадцать шагов, запала в траве, а он туда собаку: „Иди ищи!“ Чутьиш-ко есть, найдет, встанет. Пошла собака! Чего там! — пошла! Дипломчик заработает… Как дети, ей-богу! Собака-то еще того удовольствия не знала, как за вольной птицей гоняться. Всю ее страсть шнурком затянуло, а шнурочек-то распустился, ослабился, забыла собака про него — все равно погонит птицу-то. Обязательно погонит! Вот тогда уж ее ничем не исправишь. Ни плеткой, ни лаской — ничем. Для нее истинное ее призвание не радостью будет, а наказанием, потому что ее из-под палки заставляли: она еще не поняла ничего, а с нее уже работу требовали. Это как у людей худых бывает; за все по головке гладят, за все ласкают, чего ни сделай. А потом — не похвалят такого человека на собрании, он уж и в обиде… Он уж, как маленький ребенок избалованный, только за конфетку все будет делать. Творят бог знает что! Начальство не похвалит, и затосковал. А чего тосковать, если ты удовольствие от своей работы получаешь, если ты сам понимаешь, что все сделал как надо. Не для начальства же ты на свете живешь! Не для того, чтоб тебя начальство похвалило. Разве это дело?! Я ведь не всю жизнь в егерях работаю, я ведь и на фронте был, я ведь и в колхозе немало поработал, тридцать с лишним годков, вот с такого возраста и косил, и пахал, и сеял, и конюхом работал, и не обижался никогда, если получать было нечего по трудодням — все было! Всяк бьется, да не всякий добивается. Я ведь помню, как у нас тут в Лужках по вечерам и песни пели! И сам тоже пел. Видел мосток-то каменный через овраг? Видел небось и булыжник на дороге возле моста-то?! Вот там и собирались на танцы всякие. Это теперь шесть бабок да я седьмой зимуем тут, а раньше, когда шоссе не было, все тут и жили… Ничего! А теперь придут ли опять? Место хорошее. Думаю, расплодится народ, надоест кучей жить, придет и сюда. Куда ж ему деваться? Скажет, оглядевшись: во какое место хорошее! Молодцы, скажет, наши отцы… Построят домики со всеми удобствами, дороги проложат через лес… Так что я тут теперь, как сторож ночной, добро стерегу для будещих людей. Только вот что-то не едет никто жить-то оседло. Вот теперь с Лелюшкой зимовать тут буду, со своим дружочком серебряным… На меня в колхозе ругаются: на колхозной земле живешь! Отрежем землю! А я им говорю: режьте, если вам приятно будет вместо картошки куриную слепоту на огороде видеть. Вон весной-то огороды — желтые: все в Воздвиженское уехали. Иной раз думаешь, помрешь тут зимой, и не узнает никто. Да, даст бог, летом помру! Летом тут народ… Так что вот, видишь, какие дела. Вот Лелюшку на будещий год натаскаю, веселей будет… С весны дам ему волю, нагоняется он у меня до одури, умишко проснется в нем, и хорошо будет. Он уж точно у меня будет знать, что птичек гонять ему можно, но никакого в этом интереса нет ни ему самому, ни мне, хозяину. Понял ты теперь? Вольная натаска, это тоже не простое дело: гоняй, делай что хочешь… Не-ет. Ты вот с Лелюшкой пойдешь в поле, а я тут-то по Лелюшке-то плакать буду, по загубленной его душе. Мало их, душ-то загубленных! Оставь уж одну мне на спасение. И не обижайся на старика. В чулане и во дворе хоть целуйся с ним, а в поле не дам. И не проси, не зли меня. А насчет того, что я тебе тут говорил… Тут все правильно, по-моему. На земле без удовольствия жить невозможно».