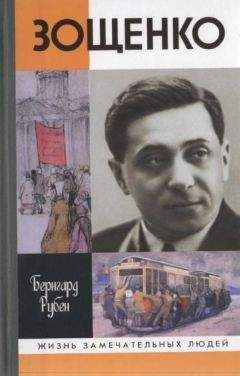Прошло несколько лет. Я проводил «саббатикал» в небольшом университетском городке Восточного побережья, где жил еще бо́льшим анахоретом, чем обычно на своей новой родине. Не будем, однако, валить все на Америку. Эмигрируют именно те, у кого «есть проблемы» с укоренением в окружающей среде. Как улитка свое жилище, они повсюду носят за спиной чувство бездомности. Не подумайте, что я жалуюсь, — бездомность, особенно в Америке, может быть комфортабельной и даже уютной. Я, например, очень люблю совершать прогулки — на машине, на велосипеде, на своих двоих — по богатым, дачного вида американским поселкам. Особенно привлекательны они вечером; их окна пунктирно светятся среди деревьев, как бы срастающихся с деревянными стенами и переборками домов, сквозь стекла угадываются фигуры обитателей, которые иногда показываются и на пороге, чтобы позвать внутрь собаку.
Собак я не люблю, но, как мне кажется, понимаю. Мы ведь тоже животные, тварь дрожащая. Одно из моих тайных пристрастий состоит в том, чтобы во время одинокого моциона, желательно при свете луны, выбрав укромный куст с видом на освещенные окна, излить наружу долго копившееся содержимое мочевого пузыря. Контакт со средой при этом получается взаимный — на твою струю она отвечает холодящей живот ночной свежестью, от которой тебя прохватывает судорожная собачья оторопь. Вот и все. Снова плотно застегнувшись, я продолжаю свой путь и никому ни слова об этом приватном священнодействии.
Один из домов, мимо которых пролегал мой маршрут, украшала своим присутствием сибирская лайка. Дом был внушительный; с улицы он виделся как вытянутый в длину одноэтажный, но задней стороной выходил на спуск к ручью, над которым царил верандами на трех уровнях. Благородного светлосерого цвета (того же, что и крупный гравий дорожек), днем он оттенял белизну собачьей шерсти, а ночью сливался с ней. Участок не был огорожен, и громадная собака, с лаем сопровождавшая меня по периметру своих владений, не могла не вызывать подспудного трепета. Мои страхи прошли, когда мне объяснили смысл таблички «Invisible Fencing». Электромагнитное поле индуцирует, через специальный ошейник, сильнейший шок всякий раз, как животное приближается к границе участка. Вскоре собака, особенно породистая, с богатой психикой, выучивает, что «за ограду нельзя»; поле становится ненужным, а часто и совсем отключается.
Тогда я решился осуществить давно преследовавшую меня фантазию. Собственно, препятствий не предвиделось никаких, кроме чисто психологического привыкания к идее ее выполнимости. И вот, в один прекрасный вечер, заняв позицию в облюбованном полутемном месте, на равном расстоянии от двух уличных фонарей, в виду луны, полуосвещенного дома и гигантского, но, в сущности, сугубо декоративного зверя, я направил свою струю, так сказать, на и сквозь невидимую ограду. Собака озадаченно притихла всего в двух шагах, насторожив уши и как бы чувствуя значительность происходящего. С наслаждением встряхнувшись напоследок, я стал застегиваться, когда мне пришлось вздрогнуть еще раз — от раздавшегося над моим ухом голоса:
— Должен ли я принять это на свой личный счет, да, личный счет, или вы так помечаете территорию по всему поселку?
К моему испугу тотчас примешалось радостное чувство везения, ибо даже сквозь английскую речь нельзя было не узнать неповторимого сэра Элайджу. Я ответил чистосердечным до эксгибиционизма признанием и напомнил о нашей иерусалимской встрече. «Конечно, кто же, кроме русского….» — сказал он, отмахиваясь от дальнейших объяснений.
Оказалось, что его на семестр пригласили в здешний университет, а дом с собакой (и богатым винным погребом) был предоставлен в его распоряжение коллегами-музыкантами, как раз уехавшими в Европу. Он предложил зайти. Разом сбылись две мои мечты — проникнуть в давно осаждаемую крепость (хотя бы и на птичьих правах) и познакомиться с сэром Элайджей. Как я уже говорил, он занимал меня главным образом в связи с Меерсоном. Самый факт их дружбы был моим скромным открытием (насколько я понимаю, о ней не догадывался даже В. И.), и я рассчитывал, не встречая конкуренции, разработать эту жилу до конца, особенно теперь, когда волей судьбы материал валился мне в руки.
Биографические сведения о Меерсоне скудны. Они сводятся к статьям в энциклопедиях и специальных журналах, где более или менее круглые годовщины со дня его гибели (под снежной лавиной в Тироле, в 1938 году, во время международного симпозиума) отмечаются с регулярностью. И больше ничего — если не считать посмертных воспоминаний одной французской писательницы, где есть глава, посвященная «безвременно погибшему гению советской математики», с которым у нее был своеобразный роман. По имени Меерсон там не назван, в указателе его нет, так что эти пикантные и, мягко говоря, беллетризованные мемуары прошли мимо историков нашей отвлеченной науки. Мне их подсунули в Париже — как книгу с забавной главой о России.
История, действительно, интригующая. Девическая левизна и завороженность загадками славянской души приводят отважную француженку в Россию времен сталинского террора, культурная слепота — в математические, т. е. преимущественно гомосексуальные, круги, а писательское чутье — в связь с самым оригинальным их представителем. Соответственно, роман с ним и не может быть никаким иным, нежели «своеобразным». В этом смысле мемуары отдают подлинностью.
В первый ее приезд, в качестве прогрессивной поэтессы, они знакомятся, возникает взаимное притяжение, но она чувствует какую-то преграду, чем ее интерес только подогревается. Во второй раз она аккредитуется как журналистка и приезжает надолго, но не застает его в Москве. Телеграммой из Крыма, из дома отдыха ученых, он зовет ее присоединиться к нему. Она едет, кое-как добирается до Месхета (она уже прилично говорит по-русски), находит этот санаторий, сторож ведет ее к нему в комнату, они остаются одни.
Вместо поцелуев происходит неловкая сцена. Он церемонно просит извинить за недоразумение — администрация неправильно истолковала его заявку, помещений не хватает, короче говоря, они поставили вторую кровать… Он, разумеется, готов немедленно пойти в контору и требовать для нее отдельной комнаты, но, с другой стороны, он был бы счастлив, если бы она согласилась жить с ним, как он выражается, «под одной крышей», по-дружески, комната большая, можно даже поставить ширму, в общем, решение за ней.
Молодая женщина видит все насквозь. И то, что ученому с мировым именем страшно итти в контору, и то, что он, понимая, что она это понимает, пользуется этим для игры второго порядка, где сближение будет в пределе возможным, но отнюдь не заданным с самого начала. С любопытством она принимает игру.
Они начинают жить вместе, вместе ходят на завтрак, обед и ужин в санаторскую столовую, вместе гуляют перед сном, ничем не отличаясь от других супружеских пар. Вплоть до того, что иной раз он на целый день отправляется в горы с остановившимся неподалеку другом, оставляя «жену» в одиночестве. Так проходит примерно месяц. Француженка проявляет такт, теряется в догадках и даже начинает ревновать к приятелю, который, кстати, улучив минуту наедине, намекает на безнадежность ее притязаний.
Имени приятеля мемуаристка не называет, но — и это моя главная находка — оно восстанавливается с высокой вероятностью. В опубликованной после смерти работе, положившей начало так наз. «перевальному» направлению в одной из отраслей математики, Сергей Меерсон иллюстрирует ключевое понятие своего подхода множественностью горных планов, открывающихся с серии последовательных перевалов, как, например, пишет он в сноске, «на пути из Месхета в Атузы, неоднократно проделанном мной в обществе моего друга, И. Б. Ш., с которым мы обсуждали музыкальные и литературные аналогии к принципу «перевала». В тридцатые годы, да и много позже, такая сноска была бы без разговоров зарезана редактором. Но смерть автора даровала ей жизнь, влачившуюся, впрочем, в безвестности — до тех пор пока, попавшись мне на глаза, она не пережила второе рождение. Пометка «Атузский перевал, март» под ныне классической статьей сэра Элайджи о многоуровневости эстетических структур, вышедшей уже в Англии, не оставляла сомнений относительно личности И. Б. Ш.
Вооруженный этой уникальной комбинацией сведений, я давно мечтал подступиться к сэру Элайдже. Дело в том, что за самолюбивыми прозрениями отвергнутой француженки мне мерещилось нечто более нетривиальное, нежели плотская связь двух молодых самцов, которым, кстати, не было никакой нужды прятаться в горах, когда они преспокойно могли бы поселиться вдвоем в той самой комнате. Напротив, присутствие в ней дамы, к тому же иностранки, было вызывающе заметным, и, не диктуясь сексуальными причинами, наталкивало на размышления. Элемент инсценировки был очевиден, но он скорее всего не сводился ни к камуфляжу обычного (или не совсем) соблазнения, ни даже к травестийному сокрытию «голубого», как теперь говорят, романа.