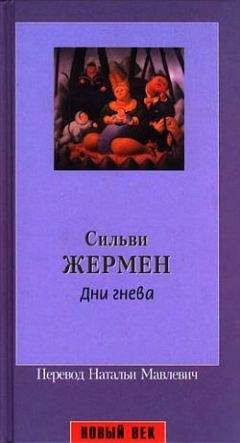Рен знала, сколь уязвима плоть; до боли, до содрогания знала, сколь хрупка душа. Любая малость может ее ранить, повредить, уязвить и погубить. Достаточно острого шипа, змеиного укуса, ядовитого корня или ягоды, стеклянной крошки, чтобы отравить человеку кровь, лишить его жизни. Достаточно жестокого слова, злого взгляда, презрительной улыбки, предательства, обмана, чтобы разбить ему сердце, смешать его мысли, замутить душу. То было инстинктивное знание — так зверь и птица умеют найти дорогу к логову или гнезду, умеют бегать, плавать и летать, добывать пищу и спасаться от врага. Рен обладала инстинктом сохранения души и плоти. Силе этого инстинкта соответствовала сила ее любви. Любовью вскормила она сыновей, взрастила их в чистоте и свете. Даже Утренние братья, при всем их буйстве, хранили в сердцах эту любовь. Даже Вечерние братья, при всей их сумеречной грусти, хранили в сердцах этот свет.
Но вот исчез в ночи и холоде Симон, сметенный черным вихрем ненависти и отчаяния. Одно чадо вырвано из лона материнской любви. Где он, кто позаботится о нем, кто даст ему кров и пищу? И не пустит ли корни зло в его пораженном обидой сердце? Эти горькие думы поселили в Рен сомнения. Она терзалась беспокойством за Симона, как когда-то голодом: молча и втайне от всех. Тревогой пропиталась ее любовь. Все так же неустанно пеклась она о сыне, но не знала, где он и что с ним. Денно и нощно все помыслы ее вплетались в молитвы, словно протягивались невидимые живые ветви вдогонку пропавшему сыну, чтобы оберегать его на расстоянии.
В напряженной тревоге, в ожидании Симона Толстуха Ренет провела всю зиму. Но он не вернулся, и вестей о нем не было. Зима миновала, растаял снег, ожили ручьи, вернулись птицы. Рубка леса закончилась, на всех бревнах уже стояло клеймо. Наступила пора сплава, надо было перетащить срубленные стволы к реке. Толстуха Ренет смотрела, как тянутся по дороге запряженные волами дроги с бревнами. Среди волов не было Рузе. А среди погонщиков — Симона. Рен слышала поступь волов и погонщиков, скрип колес под тяжким грузом. Слышала, как возчики понукают изнемогающих животных, хрипло и протяжно повторяя их клички. И она так же нараспев повторяла про себя никем не выкликаемое: «Ру-зе». Однако ни бык, ни Симон не появлялись. И вот Рен слегла. Ее одолела не вязкая истома, заставлявшая когда-то дремать целый день, растянувшись на лавке. Ее истомило мучительное ожидание. Она перестала есть. Голод, преследовавший Рен всю молодость, вновь настиг ее, но он словно выдохся. Толстуха Ренет лежала в постели, взгляд ее сине-фарфоровых, кукольных глаз с застывшими слезами витал в пустоте. Порхал, точно мошка с прозрачными крылышками, испуганная обилием света или тьмы, мечущаяся, не находя выхода, под колпаком горящей лампы, куда залетела по несчастной случайности.
Взгляд Толстухи Ренет рвался вон из тела, чтобы без помех улететь на поиски сына, подхваченного ледяным вихрем.
Эдме целыми днями ухаживала за дочерью. По временам ее сменяли Луизон-Перезвон и Блез-Урод. Когда-то Эдме не успевала напастись еды для Рен, теперь же с трудом вливала с ложки несколько капель воды в ее плотно сомкнутый рот, и это ее ужасало. Блез-Урод все удивлялся блуждающему взгляду матери. «Что ищут твои глаза, куда стремятся?» — спрашивал он ее своим мягким голосом. Его тревожил ее мечущийся взгляд, напоминающий судорожные зигзаги пчелы перед смертью. «Что ты увидела, что тебя так напугало?» Но смятение поселилось в глазах Рен как раз потому, что они не видели желаемого. Не видели Симона среди работников, не могли остановиться на его лице. Потому что не находила выхода ее любовь, не достигавшая того, кого она хотела утешить. По ночам Эфраим старался обнять ее посильнее, как будто его мужская сила могла удержать ее. Прикладывал ладони к ее векам, чтобы глаза ее успокоились. «Спи, спи, Ренет, усни же, я здесь, рядом». Но ресницы поднимались и опускались под его рукой, и они были влажны. Так, прикрывая глаза Рен, Эфраим засыпал. Однажды утром, проснувшись, он не ощутил миганья мокрых ресниц. Бережно убрал руку. Взгляд Рен успокоился. Она тихо лежала с приоткрытыми глазами. Эфраим склонился над ней, она ему улыбнулась. Призрачной улыбкой, откуда-то издалека. Затем веки ее медленно-медленно закрылись. Эфраим почувствовал легкое, нежное прикосновение. Взглянул на руку и увидел на ладони мерцающую прозрачной голубизной каплю. Синие глаза Рен одарили его последней лаской, последней слезой перед тем, как погаснуть.
Исчезнувший сын объявился. Тогда, зимой, он умчался прочь из Лэ-о-Шен на спине вола. Бродил по хуторам, нанимаясь работником туда, где они с Рузе могли пригодиться. И каждый вечер засыпал с мрачной надеждой, что утром получит долгожданное известие о смерти старого Мопертюи. Но ждал он тщетно. Вместо этого до него дошла другая весть, точнее, знак. Как-то поутру его лицо и руки обдало легким дуновением, хотя не было ни малейшего ветра. Словно свежее дыхание коснулось его. Дыхание матери. И он вдруг вспомнил давно забытые детские ощущения: как он засыпал на руках у матери, прижавшись к ее груди и вдыхая чудесный уютный запах ее кожи; как убаюкивал его материнский голос, ее рассыпающийся, как звон бубенчиков, смех, ее прозрачно-синие глаза. Спросонок ему показалось, будто маленькая ладошка Рен нежно погладила его, он словно увидел ее улыбку и покойный, мечтательный взгляд. Она смотрела ему в глаза, проникая в душу; он слышал совсем рядом ее шепот: «Я здесь, сынок, наконец-то я тебя нашла, и я с тобой…» Тихий голос звучал в его сердце, как колыбельная.
Он так явственно, так близко слышал голос матери, ощущал ее взгляд, что им овладело желание повидать ее, братьев, родной дом, нагорные леса. Он решил вернуться и не медля пустился в путь. С каждым шагом ему все больше не терпелось увидеть мать и всех домашних. С каждым шагом крепла безумная надежда — увидеть и Камиллу. В спешке и жажде радостных встреч он забыл о существовании Амбруаза. До хутора он добирался несколько дней — долгих, нескончаемых дней, показавшихся ему длиннее, чем все проведенные вдали от дома месяцы. Рузе шагал рядом.
На хуторе он никого не встретил. Дойдя до Крайнего двора, никого не нашел и там. Он позвал мать, Эдме, Луизона-Перезвона и Блеза-Урода, но никто не откликнулся, между тем обычно они бывали в доме или поблизости. И тогда его поразила какая-то особая тишина, гнетущая больше, чем обычная тишина пустого дома. В ней сливалось множество пустот, углубляя и усугубляя друг друга. Молчали часы на стене, маятник их замер в неподвижности. Неужто с его уходом остановилось время? Он боялся оглядеться, чтобы не найти еще чего-нибудь, подтверждающего мелькнувшую догадку. Часы останавливают в доме только тогда, когда в него приходит смерть. Молчание часов сдавливало ему горло, он задыхался в нем. Все же он решился пройти в родительскую спальню. Медленно потянул дверь. И, едва заглянув, все понял. Мертвое молчание обрушилось на его сердце, ворвалось в его жилы, сковало мысли и чувства. С родительской кровати сняли соломенный тюфяк — конечно, чтобы сжечь; так велел обычай: сжигать постель усопшего. Зеркало на дверце шкафа завесили — чтобы новопреставившаяся душа не искала в нем отражение покинутого тела и не сокрушалась о том, что отныне обречена быть невидимой.
Спальня была пуста, вопиюще пуста. У Симона подкосились ноги, и он осел на пол. Сомнений не осталось. Только исчезновение матери могло так осиротить дом. При виде голых досок кровати, завешенного зеркала ему передалось горе, которое должен был испытывать отец. Потеря была соизмерима с дородностью Рен: сколь теплым и нежным было ее тело, столь же леденящей и суровой утрата для Эфраима. Жестокая боль была бездонна, как объятия Рен. И горе было соразмерно счастью, утерянному с уходом Рен. Все рушилось, теряло смысл. Свет, заливавший спальню, вдруг замутился и померк, воздух стал душным и затхлым, тишина — оглушительной. Даже слюна во рту превратилась в желчь. Нет больше матушки, любимой матушки, ради которой он вернулся, бесконечно доброй и щедрой, дарующей покой и благо. Никогда больше он не увидит ее.
Тут-то Симон и вспомнил о старом Амбруазе. Это он, старый Мопертюи, прогнал его из дома, разлучил с родными, вдали от которых жизнь была постыла, безрадостна и тускла. Это из-за него остановили часы и сожгли постель, это он натравил смерть на его родной дом.
Симон горевал с такой же силой, как отец, но изливалось его горе совсем иначе. Не покорство и не смирение, а бешеный гнев овладел им. Он встал, вышел в сени, схватил топор. На дворе его ослепил яркий свет. И в сиянии майского утра он увидел Рузе. Вол терпеливо стоял посреди двора. Но Симон не узнавал своего товарища по скитаниям. Перед ним был колосс ошеломляющей белизны. Гигантский призрак, явившийся среди дня. Жуткое видение — вол из колесницы смерти.
Но где же сама смерть? Не упрятала ли она тело умершей матери в утробу этого белого гиганта? Не схоронилась ли сама в его сердце? Симон подскочил к Рузе, с размаху всадил топор ему меж глаз. Вол рухнул, не успев шевельнуться, не издав ни звука. Бросившись к поверженному телу, Симон отрубил голову, ноги, вспорол чрево. Он наносил все новые удары приспешнику смерти, рабу старого Мопертюи. Расчленял, потрошил тушу, выпускал кровь. Уничтожал самый образ Рузе, сдирал шкуру с вола-призрака, рубил в куски исполина, чтобы больше он не мог влачить колесницу смерти и скорби или тянуть за собою, как плуг, нескончаемый злобный смех Амбруаза Мопертюи.